ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ГОСУДАРСТВОМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
Ключевые слова
АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается тема исторического формирования коренных народов, в том числе малочисленных, населяющих северные и восточные евразийские территории России, включая арктические регионы, в пределах современных границ Российской Федерации. Даны разъяснения термину «коренные народы», приведены его эквиваленты, представлены проблемы коренных этносов в мире. Изложена взаимосвязь исторического развития коренных народов Северной и Восточной Евразии с их социально-экономическим и политическим взаимоотношением с Российским государством на протяжении длительного периода их сосуществования, проанализированы демографическое состояние и причины изменения численности той или иной этнической группы.
Введение
Коренные народы (indigenous peoples) — устойчивая общность людей, населяющая определенные территории нашей планеты тысячелетиями, укоренившаяся на них раньше других и сохранившая прочную потомственную историческую связь с этими землями. Термин «коренные народы» устойчиво вошел в международно-правовую, научную и иные сферы, хотя толкование данного термина в значительной степени зависит от исторического развития этносов в различных регионах, их принадлежности к определенной общественной системе, социально-культурного отличия от других и т. д. [1]. Употребление словосочетания indigenous peoples («коренные народы») обнаружено в исторических документах начиная с первой половины XVI века, в период европейской колониальной экспансии, определяемого как период Великих географических открытий. Этот термин впервые в правовом контексте был употреблен знаменитым богословом, гуманистом Франсиско де Витория, последователем Фомы Аквинского, поставившим вопрос о законности захвата земель Нового Света и притеснения туземного населения европейцами [2]. Наряду с термином «коренные народы» (indigenous peoples), происходящим от латинского слова indigen («врожденный», «унаследованный»), встречаются и другие эквивалентные определения. Аборигенность — термин, также имеющий латинские корни от слова ab origin («от начала»), преимущественно употребляется в Австралии и чаще всего звучит в сочетании «аборигены и островитяне Торресова пролива» (aboriginal and Torres Strait Islanders); маори — коренные жители Новой Зеландии называют себя Tangata Whenua, что означает «народ земли» (people of the land). В Соединенных Штатах Америки (США) и Канаде употребляются понятия Native people, First Nations, First peoples, указывающие на первичность и «первородность» коренных этносов, проживающих на данном континенте. В некоторых странах, например во Франции, Испании, используют понятие «автохтонные народы», происходящее от греческого словосочетания αὐτός («сам») + χθών («земля») [1, 3]. Между тем перечисленные термины не всегда являются синонимами и имеют различные научные, правовые, политические, географические и иные оттенки в зависимости от контекста их применения и интерпретации [4].
Впервые в европейской цивилизации проблемы коренных народов стали подниматься в период освоения Нового Света. Особенно интенсивно они стали изучаться со второй половины XIX века, обретая высокий общественно-политический резонанс на международном уровне. На сегодня в мире создано множество крупных международных организаций, изучающих культурно-этнические особенности, историческое развитие и проблемы защиты прав коренных народов. Среди них выделяются международная рабочая группа по делам коренных народов, Копенгаген (International Work Group for Indigenous Affairs, Copenhagen); Центр мировых исследований коренных народов (Center for World Indigenous Studies); Институт развития коренных народов, США (First Nations Development Institute, USA); Центр исследований коренных народов при Университете в Торонто, Канада (Centre for Indigenous Studies, University of Toronto, Canada); международная рабочая группа по делам коренных народов (International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) и другие. При Организации Объединенных Наций (ООН) разработано три главных направления по проблемам коренных народов с формированием соответствующих структур: экспертный механизм по правам коренных народов (Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples), Специальный вестник прав коренных народов (Special Rapporteur Rights of Indigenous Peoples) и наиболее авторитетный — Постоянный форум по проблемам коренных народов ООН (United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues). Согласно современному определению ООН, термин «коренные народы» имеет широкий диапазон и включает в себя следующее [5]:
Коренные народы мира
В настоящее время в 90 странах мира насчитывается более 476,0 млн представителей коренных этносов, что составляет только 6,2% населения нашей планеты (рис. 1). Большая часть коренных народов мира сконцентрирована в Китае — 125,3 млн человек, где кроме ханьского китайского большинства, составляющего 92% от всего населения, государством различаются 55 этнических групп [6]. Второй страной по величине коренных этносов, населяющих ее территории, является Индия, где количество коренных народов, состоящих из 77 этнических групп, составляет 104,0 млн жителей, на третьем месте находятся Индонезия и часть Юго-Восточной Азии с суммарным количеством коренных этносов свыше 100,0 млн человек.
В Соединенных Штатах Америки (США) число представителей коренных этносов составляет 6,6 млн, в Канаде — 1,7 млн, Мексике — 16,9 млн человек. В Южной Америке количество представителей коренных народов в целом в различных государствах не превышает 15,0 млн жителей.
На Африканском континенте выделяют более 100,0 млн различных коренных народов: этническая группа хауса, преимущественно локализующаяся в Нигерии, представляет наибольшее количество индигенов Западной Африки численностью 70,0 млн человек. Большая концентрация коренных этносов отмечается в Эфиопии (16,5 млн), Алжире (12,0 млн) и Марокко (10,0 млн).
В Австралии и Новой Зеландии численность аборигенов не превышает 1,0 млн человек. В России количество представителей коренных малочисленных народов (КМН) (численностью менее 50 000 человек каждого этноса, см. ниже) составляет около 300 000 жителей. Наименьшее количество коренных этносов, согласно представленной карте, проживает в западноевропейских странах, составив менее 100 000 человек (баски, ениши и другие).
РИС. 1. КОРЕННЫЕ НАРОДЫ МИРА
Коренные народы (indigenous peoples) — устойчивая общность людей, населяющая определенные территории нашей планеты тысячелетиями, укоренившаяся на них раньше других и сохранившая прочную потомственную историческую связь с этими землями. Термин «коренные народы» устойчиво вошел в международно-правовую, научную и иные сферы, хотя толкование данного термина в значительной степени зависит от исторического развития этносов в различных регионах, их принадлежности к определенной общественной системе, социально-культурного отличия от других и т. д. [1]. Употребление словосочетания indigenous peoples («коренные народы») обнаружено в исторических документах начиная с первой половины XVI века, в период европейской колониальной экспансии, определяемого как период Великих географических открытий. Этот термин впервые в правовом контексте был употреблен знаменитым богословом, гуманистом Франсиско де Витория, последователем Фомы Аквинского, поставившим вопрос о законности захвата земель Нового Света и притеснения туземного населения европейцами [2]. Наряду с термином «коренные народы» (indigenous peoples), происходящим от латинского слова indigen («врожденный», «унаследованный»), встречаются и другие эквивалентные определения. Аборигенность — термин, также имеющий латинские корни от слова ab origin («от начала»), преимущественно употребляется в Австралии и чаще всего звучит в сочетании «аборигены и островитяне Торресова пролива» (aboriginal and Torres Strait Islanders); маори — коренные жители Новой Зеландии называют себя Tangata Whenua, что означает «народ земли» (people of the land). В Соединенных Штатах Америки (США) и Канаде употребляются понятия Native people, First Nations, First peoples, указывающие на первичность и «первородность» коренных этносов, проживающих на данном континенте. В некоторых странах, например во Франции, Испании, используют понятие «автохтонные народы», происходящее от греческого словосочетания αὐτός («сам») + χθών («земля») [1, 3]. Между тем перечисленные термины не всегда являются синонимами и имеют различные научные, правовые, политические, географические и иные оттенки в зависимости от контекста их применения и интерпретации [4].
Впервые в европейской цивилизации проблемы коренных народов стали подниматься в период освоения Нового Света. Особенно интенсивно они стали изучаться со второй половины XIX века, обретая высокий общественно-политический резонанс на международном уровне. На сегодня в мире создано множество крупных международных организаций, изучающих культурно-этнические особенности, историческое развитие и проблемы защиты прав коренных народов. Среди них выделяются международная рабочая группа по делам коренных народов, Копенгаген (International Work Group for Indigenous Affairs, Copenhagen); Центр мировых исследований коренных народов (Center for World Indigenous Studies); Институт развития коренных народов, США (First Nations Development Institute, USA); Центр исследований коренных народов при Университете в Торонто, Канада (Centre for Indigenous Studies, University of Toronto, Canada); международная рабочая группа по делам коренных народов (International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) и другие. При Организации Объединенных Наций (ООН) разработано три главных направления по проблемам коренных народов с формированием соответствующих структур: экспертный механизм по правам коренных народов (Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples), Специальный вестник прав коренных народов (Special Rapporteur Rights of Indigenous Peoples) и наиболее авторитетный — Постоянный форум по проблемам коренных народов ООН (United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues). Согласно современному определению ООН, термин «коренные народы» имеет широкий диапазон и включает в себя следующее [5]:
- самоидентификацию представителя коренного народа на индивидуальном уровне и признание его сообществом как своего члена;
- историческую преемственность с доколониальными и/или допоселенческими обществами;
- тесную связь с территорией и окружающими ресурсами;
- отличные от других социальные, экономические и политические системы;
- отличные от других язык, культуру, верование;
- формирование не доминирующей по количеству группы общества;
- намерение сохранять и воспроизводить свою исконную среду и систему обитания как самобытный народ и общество.
Коренные народы мира
В настоящее время в 90 странах мира насчитывается более 476,0 млн представителей коренных этносов, что составляет только 6,2% населения нашей планеты (рис. 1). Большая часть коренных народов мира сконцентрирована в Китае — 125,3 млн человек, где кроме ханьского китайского большинства, составляющего 92% от всего населения, государством различаются 55 этнических групп [6]. Второй страной по величине коренных этносов, населяющих ее территории, является Индия, где количество коренных народов, состоящих из 77 этнических групп, составляет 104,0 млн жителей, на третьем месте находятся Индонезия и часть Юго-Восточной Азии с суммарным количеством коренных этносов свыше 100,0 млн человек.
В Соединенных Штатах Америки (США) число представителей коренных этносов составляет 6,6 млн, в Канаде — 1,7 млн, Мексике — 16,9 млн человек. В Южной Америке количество представителей коренных народов в целом в различных государствах не превышает 15,0 млн жителей.
На Африканском континенте выделяют более 100,0 млн различных коренных народов: этническая группа хауса, преимущественно локализующаяся в Нигерии, представляет наибольшее количество индигенов Западной Африки численностью 70,0 млн человек. Большая концентрация коренных этносов отмечается в Эфиопии (16,5 млн), Алжире (12,0 млн) и Марокко (10,0 млн).
В Австралии и Новой Зеландии численность аборигенов не превышает 1,0 млн человек. В России количество представителей коренных малочисленных народов (КМН) (численностью менее 50 000 человек каждого этноса, см. ниже) составляет около 300 000 жителей. Наименьшее количество коренных этносов, согласно представленной карте, проживает в западноевропейских странах, составив менее 100 000 человек (баски, ениши и другие).
РИС. 1. КОРЕННЫЕ НАРОДЫ МИРА
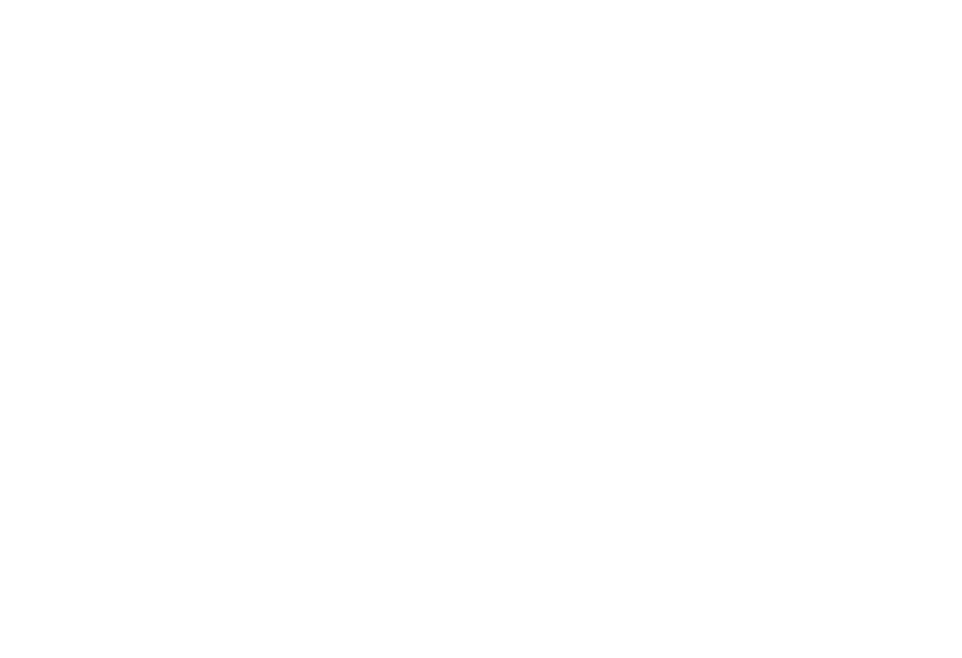
Интересным является тот факт, что в Гренландии 89% населения представлены инуитами (эскимосами), подобная ситуация наблюдается и во Французской Полинезии, где 80% населения состоит из различных групп коренных этносов. Народ кечуа, прямой потомок инков и других коренных этносов Южноамериканского континента, составляет более 80% населения Перу и около половины жителей Боливии. В Гватемале почти половина населения состоит из коренных народов; в Непале, Алжире, Марокко доля коренных этносов составляет 1/3 или более от всего территориального населения; в Кении и Индонезии — 1/4 часть от общего населения этих стран. Приведенные долевые значения численности коренных этносов различных стран не соответствуют одному из принципов определения ООН коренных народов как формирований, не доминирующих над другими группами сообществ, выявляя тем самым несовершенство сформулированных ООН критериев понятия «коренной народ».
Известно, что освоение Западом Северной и Южной Америки, Австралии, Новой Зеландии и других территорий проходило в неравной борьбе с коренным населением, с применением огнестрельного оружия европейскими переселенцами, что привело к беспощадному истреблению и многократному сокращению численности коренных этносов. Депопуляции коренного населения способствовали и привнесенные пришлыми инфекционные заболевания, к которым у коренных этносов отсутствовал иммунный ответ организма. Только в Австралии от начала колонизации, с 1788 года, число аборигенов с 300 тыс. в течение одного столетия сократилось до 60 тыс. человек, а в Новой Зеландии в течение XIX столетия число маорийцев уменьшилось с 200 тыс. до 40 тыс. человек [7]. Самый «длительный холокост в истории человечества» отмечается в США и Канаде, где за 500 лет пришлыми европейцами истреблены 95 из 114 млн коренных жителей Северной Америки [8]. Такова была сущность колониальной политики «цивилизованного» Запада в «новых» землях по отношению к коренным жителям, которая до настоящего времени сохраняет свои черты, выражаясь в экономическом, медико-социальном, политическом и другом неравенстве между представителями доминирующего населения и коренным меньшинством.
Согласно Дж. Д. Мэтьюс, последствия колонизации аборигенов Тихоокеанского региона белыми оказывают существенное влияние на состояние их здоровья и по настоящее время [9]. Представленная ниже схема Дж. Д. Мэтьюс является типичной для большинства коренных народов мира, живущих в постколониальном периоде (рис. 2).
РИС. 2. ВЛИЯНИЕ КОЛОНИЗАЦИИ БЕЛЫХ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ АБОРИГЕНОВ СЕГОДНЯ. МОДИФИКАЦИЯ И ПЕРЕВОД СОДЕРЖАНИЯ СХЕМЫ ДЖ. Д. МЭТЬЮС [9]
Известно, что освоение Западом Северной и Южной Америки, Австралии, Новой Зеландии и других территорий проходило в неравной борьбе с коренным населением, с применением огнестрельного оружия европейскими переселенцами, что привело к беспощадному истреблению и многократному сокращению численности коренных этносов. Депопуляции коренного населения способствовали и привнесенные пришлыми инфекционные заболевания, к которым у коренных этносов отсутствовал иммунный ответ организма. Только в Австралии от начала колонизации, с 1788 года, число аборигенов с 300 тыс. в течение одного столетия сократилось до 60 тыс. человек, а в Новой Зеландии в течение XIX столетия число маорийцев уменьшилось с 200 тыс. до 40 тыс. человек [7]. Самый «длительный холокост в истории человечества» отмечается в США и Канаде, где за 500 лет пришлыми европейцами истреблены 95 из 114 млн коренных жителей Северной Америки [8]. Такова была сущность колониальной политики «цивилизованного» Запада в «новых» землях по отношению к коренным жителям, которая до настоящего времени сохраняет свои черты, выражаясь в экономическом, медико-социальном, политическом и другом неравенстве между представителями доминирующего населения и коренным меньшинством.
Согласно Дж. Д. Мэтьюс, последствия колонизации аборигенов Тихоокеанского региона белыми оказывают существенное влияние на состояние их здоровья и по настоящее время [9]. Представленная ниже схема Дж. Д. Мэтьюс является типичной для большинства коренных народов мира, живущих в постколониальном периоде (рис. 2).
РИС. 2. ВЛИЯНИЕ КОЛОНИЗАЦИИ БЕЛЫХ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ АБОРИГЕНОВ СЕГОДНЯ. МОДИФИКАЦИЯ И ПЕРЕВОД СОДЕРЖАНИЯ СХЕМЫ ДЖ. Д. МЭТЬЮС [9]
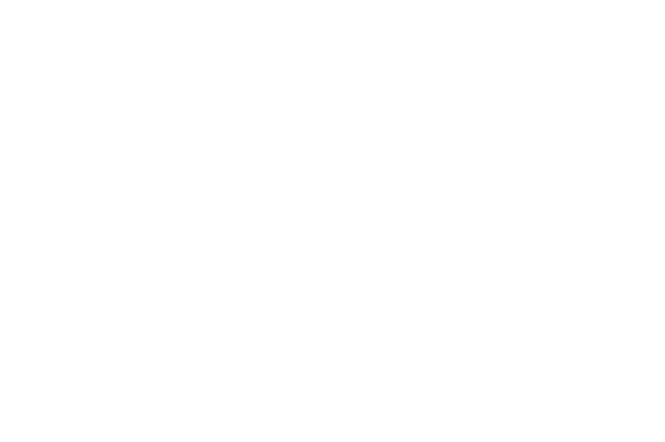
Из-за потерь исконных земель, принадлежавших им тысячелетиями, коренные народы лишаются традиционного уклада жизни, обеспечивающего им жизнеспособность (питание, воспроизводство и пр.), что влечет за собой плохое питание и развитие обменных и множество других заболеваний, в том числе болезней «цивилизации», таких как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония и др. Большинство коренных этносов продолжают испытывать культурный геноцид со стороны доминирующего населения, приводящего к социальной и экономической маргинилизации — бедности, дискриминации, низкому уровню образования и, как следствие, к росту алкоголизма, наркомании, несчастных случаев, домашнего насилия, криминализации и т. д. Условия жизни большинства коренных этносов в постколониальном периоде продолжают оставаться плохими: они чаще живут в изолированных окраинных поселениях, резервациях, урбанизированных гетто, с низкими санитарно-гигиеническими характеристиками бытовой среды, скученностью, что способствует распространению инфекционных заболеваний, особенно социально значимых инфекций. Все это обусловливает рост смертности и снижение других демографических показателей среди большинства коренных народов мира.
Кроме перечисленных факторов и причин, способствующих депопуляции коренных народов, наиболее драматичным, на наш взгляд, является тот факт, что в XXI веке, высоко просвещенном, прогрессивном и гуманном, по отношению к предыдущим столетиям продолжаются антигуманные меры контроля роста населения среди коренных народов США, Канады, Мексики путем стерилизации этнических меньшинств (преимущественно коренных женщин) принудительно, или же завуалированно сообщая «жертвам» о необходимости таких вмешательств по медицинским показаниям без их на то согласия [10, 11]. Подобные подходы основаны на бесчеловечной теории и практике профилактической евгеники, называемой современными авторами скользкой евгеникой, сущность которой заключается в прерывании биологической воспроизводимости «не приносящих пользу» и являющихся «бременем» для общества людей медицинскими методами [10–14].
Между тем сегодня коренные народы мира имеют различную степень интеграции с другими популяциями своей страны. Если коренные этносы США и Канады в большинстве своем концентрированы в изолированных резервациях, что ограничивает их контакты с другими сообществами, то аборигены Австралии, Новой Зеландии достаточно тесно интегрированы в социально-экономические слои других представителей своих стран. Однако такая тенденция чревата утратой этнокультурных ценностей — языка, традиций, обычаев и т. д. [3]. Поэтому необходимо найти разумный баланс — сохранив этнические ценности, жить в гармонии с современным обществом.
Исторические этапы формирования и взаимоотношений с государством коренных народов северной и восточной евразийской части России
В России народы, населяющие сегодняшние северные, сибирские и дальневосточные территории, имеют длительную историю формирования их как современных этносов, пройдя множество переселений, генетических смешений, создавая и разрушая целые государства, ханства, каганаты, претерпев крупные захватнические и оборонительные войны, междоусобицы и т. д. По этой причине сложно сказать, какой народ на той или иной территории был первопереселенцем или же «предыдущим завоевателем». К тому же сегодня проблемы коренных народов являются благотворной политической почвой для радикальных идей разрушения единства народов Российской Федерации (РФ). Следовательно, изложение материала по данной теме требует предельной объективности и корректности в раскрытии существовавших и имеющихся на сегодня проблем коренных этносов нашей страны в историческом ракурсе; в отражении эффективности государственных мер, направленных на устранение и решение этих проблем; во внесении собственных предложений и рекомендаций по улучшению той или иной ситуации.
Известно, что Сибирь уже была заселена на заре формирования человечества в современном его виде: на Алтае следы жизни homo sapiens altaiensis — денисовцев, людей, живших в каменном веке (около 300 000 лет назад), — обнаружены в Денисовой пещере. Также до настоящего времени между учеными ведутся споры о происхождении «принцессы Укока» — мумии молодой женщины, найденной археологами в могильнике Ак-Алакы урочища Укок в Республике Алтай. Захоронение относят к типу пазырыкской культуры, основу которой составляли народы, проживавшие на территории современного Алтая, Казахстана и Монголии в VI–III веках до нашей эры.
Сегодня в России в перечень коренных (автохтонных) народов входит около 190 этносов, проживающих в том числе в современных северных и восточных регионах евразийской части страны, которые на законодательном уровне РФ географически объединены как коренные этносы Севера, Сибири и Дальнего Востока (ССДВ) РФ. Судьба коренных жителей упомянутых территорий значительно отличается от описанной выше участи коренных этносов США, Канады, Австралии и других стран. Тем не менее на заре освоения новых территорий Русским (Российским) государством случилось несколько схожих исторических событий, связанных с сопротивлением коренных жителей против пришлых. Восстания коренных народов Северной и Восточной Евразии против казаков, повлиявшие на их численность, происходили в основном из-за злоупотребления последними своей властью, вопреки указам свыше о «ласковом» обращении с коренными жителями, особенно на отдаленных и почти изолированных от центра метрополии территориях Камчатки (коряки, ительмены, юкагиры) и Чукотки (чукчи и другие).
В историко-временном разрезе коренные народы Северной и Восточной Евразии в состав Русского (Российского) государства входили поэтапно. Заселение славянами Европейского Севера России, включающего в себя шесть современных субъектов РФ (республики Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ, Архангельская, Вологодская, Мурманская области), где проживали финно-угорские и карельские племена и самодийская группа этносов (коми, саамы, вепсы, ненцы), началось еще в VI–XI веках [15].
Большинство территорий современных Сибири и Дальнего Востока, где проживало множество коренных народов, было присоединено к России в конце XVI–начале XVII веков, начиная с похода Ермака в Сибирь в 1581 году. Интересна история Республики Тыва, которая после установления Советской власти в России в 1918 году, воспользовалась правом на самоопределение и стала «свободным от протектората» царской России самостоятельным государством, именуемым Тувинской Народной Республикой (ТНР). Однако в 1944 году ТНР добровольно вошла в состав Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) и сегодня является одним из полноправных субъектов РФ. Чукотка и Камчатка вошли в состав России в XVIII веке, а Приамурье и Сахалин были присоединены к Российскому государству в XIX веке.
В России по отношению к внерусскому населению применялись такие термины, как «инородцы» (люди иного рода), «туземцы» (тут + земцы, «тутошние»), «иноверцы» (люди иной веры). Новые присоединенные территории с многочисленными коренными народами, различающимися по этническому составу, культуре, экономическому уровню развития, Российским государством рассматривались прежде всего как источник поступления дохода в казну. Государству необходимо было удержать под своей властью коренные народы и постепенно их интегрировать в свою экономическую, социальную, политическую систему. До начала XVIII века «ясачные инородцы» преимущественно облагались данью пушниной, составляющей почти половину дохода государства. В 1822 году М. М. Сперанским, прогрессивным генерал-губернатором Сибирской губернии, был разработан проект, а затем принят сенатом «Устав об управлении инородцами» — один из первых законодательных актов о защите прав коренных народов, где проблемы выживания связывались с сохранением их среды обитания, культуры, религии, уклада жизни и, главное, устоявшейся системы самоуправления «инородцев», которая была сохранена государством с учетом опыта монгольских завоевателей, а позже интегрирована в структуру органов власти России [16, 17].
С приходом Советской власти вопросы, связанные с коренными народами, также оставались во внимании правительства: в 1926 году было обнародовано постановление Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) и Совета народных комиссаров (СНК) о «Временном положении об управлении туземных народностей и племен северных окраин РСФСР» [18]. Для коренных народов РСФСР 1930-е годы являются переломным моментом, когда стали формироваться национальные округа с административно-территориальным перекроем земель и созданием мест компактного проживания коренных этносов, также началом установления государственного патернализма.
Годы Великой Отечественной войны (ВОВ) и послевоенные годы (1941–1955 гг.) были сложным временем для всей России, где коренные народы сражались за Родину и восстанавливали ее наравне со всеми другими жителями страны.
В 1960–1980-е годы наблюдается абсолютный патернализм государства по отношению к коренным этносам, преимущественно северных территорий, имевший положительные стороны. Сущность государственного патернализма заключалась в формировании института социальной защиты коренных народов, направленного на улучшение доступа к здравоохранению, образованию (открывались национальные школы, представителям коренных этносов создавались условия для обучения в высших учебных заведениях, в том числе в столичных), сохранение культуры, языка, традиционных промыслов наравне с государственной экономикой [19]. С другой стороны, политика государственного патернализма, стремясь в короткие сроки «модернизировать» устоявшийся веками уклад жизни коренных народов, не учитывала их этнокультурные, этнопсихологические особенности, тесную психоэмоциональную связь с окружающей природой и семейно-родовым сообществом. Такие перегибы выражались в желании быстрого перевода коренных этносов Севера от кочевого образа жизни к оседлому; в открытии школ-интернатов, куда помещались дети оленеводов, оторванные от семьи, для обучения, и, главное, советский государственный патернализм не учитывал права КМН Севера на собственное видение своего развития, отстранив представителей этнических групп от решения своих социально-политических проблем и исключив критические дискуссии и инициативы с их стороны [20].
В 1985–1991 годы, в период перестройки, были разрушены совхозы, оленеводческие объединения, заброшены поля, пастбищные угодья, дестабилизированы системы здравоохранения, социальной поддержки, что привело к полному обнищанию большинства коренных народов, особенно малочисленных, вследствие лишения их государственной поддержки.
Из представленного краткого исторического анализа следует, что со сменой социально-экономического и политического строя в России менялись и взаимоотношения между государством и коренными народами, населявшими ее территории. Это отражалось и в изменении терминологии, применяемой в определении коренных народов, и в издании различных нормативно-правовых актов, регулирующих статус коренных этносов. В 1920-е годы стали употребляться такие понятия, как «малые народы Севера, Сибири и Дальнего Востока», «северные национальные меньшинства», «малые туземные народности Севера». В 1993 году в Конституции РФ (статьи 69 и 72) были закреплены гарантии прав коренных народов в соответствии с принципами и нормами международного права, введено понятие «коренные малочисленные народы» и дано его разъяснение как этносов, населяющих территории традиционного проживания своих предков; сохраняющих самобытный уклад жизни; имеющих численность не более 50 000 человек [21].
Сегодня коренные народы в северной и восточной евразийской частях нашей страны представлены более чем 50 этносами. Они широко расселены на севере, начиная с Мурманской области до Чукотки, охватывают юг Сибири и Дальний Восток, проживая в четырех федеральных округах (Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный); в семи республиках (Коми, Карелия, Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Саха (Якутия); в четырех автономных округах (АО) (НАО, Ханты-Мансийский – Югра (ХМАО-Югра), Ямало-Ненецкий (ЯНАО), Чукотский АО); в шести краях (Алтайский, Красноярский, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский); 13 областях (Архангельская, Мурманская, Вологодская, Тюменская, Челябинская, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская, Амурская, Магаданская, Сахалинская).
Демографическое развитие коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в историческом аспекте
Как происходило демографическое развитие коренных народов современных территорий ССДВ РФ, начиная со времени присоединения их к России до сегодняшнего дня, какие факторы влияли и продолжают влиять на колебания их численности? Ответы на эти вопросы мы найдем, опираясь на собственные исследования и на анализ публикаций историков, этнографов, особенно на фундаментальные работы Скобелева С. Г., основанные на исторических фактах, полученных из архивных документов — ясачных книг XVII–XVIII веков, материалов ревизий XVIII–XIX веков, данных переписей населения в 1897 году и в последующее время, сведений по репрессированным представителям коренных народов в 1930-е годы и т. д. [22].
Имеется устойчивое представление о вымирании «инородцев», истреблении их казаками-завоевателями, обусловленном враждебной политикой Русского (Российского) государства по отношению к коренным народам присоединенных земель. Подобные высказывания преимущественно встречаются в зарубежных публикациях, также выражают мнение отечественных историков-публицистов областнического направления, желавших отделения, в частности, Сибири, от Российского государства [22]. Между тем приход русского народа на современные северные, сибирские и дальневосточные земли принес много положительного: прекратились междоусобные войны между коренными народами, усилились межэтнические торгово-обменные отношения, уменьшился экономический гнет (принятие православия туземцем освобождало его от несения налоговой повинности), стали безопасными границы (с Джунгарией, Китаем на окраинах Сибири, Америкой — на Чукотке) [23]. Первые десятилетия ожесточенного сопротивления более крупных по численности коренных этносов (ханты, манси, ненцы, сибирские татары, енисейские киргизы, буряты, якуты) против пришлых казаков (см. выше) сменились постепенной их интеграцией в систему Российского государства, сказавшись на изменении демографических показателей коренных народов. В Томском уезде за 200 лет, с 20-х годов XVII века до 1820 года, численность коренных этносов увеличилась в 3,6 раза — с 2500 до 9000 человек, преимущественно за счет роста рождаемости, с естественным приростом населения 0,5% в год. В целом по Сибири, включая Дальний Восток и Северо-Восток, численность коренного населения в начале и середине XVII века составляла около 200 000–160 000 человек, а к 1897 году, согласно переписи, увеличилась в 4 раза, достигнув 822 000 человек. Только за 1816–1897 годы численность коренного мужского населения выросла на 87,7% — с 220 000 до 413 000 человек. Значителен рост численности якутов: за 250 лет (к концу XIX века) их численность увеличилась с 40 000 до 245 000 человек. Оставалась стабильной численность даже тофаларов, небольшого народа, число которых в 1837–1914 годы составило 431–447 человек соответственно.
Однако наблюдается и существенная убыль численности отдельных этносов на определенных территориях, обусловленная переселением, миграцией, войнами, эпидемиями, уходом за пределы России, насильственным угоном иноземцами, урбанизацией, ассимиляцией, вызванной как межэтническими браками, так и смешением их с пришлыми русскими. Наиболее ярким примером межэтнических ассимиляций (метисации) является снижение численности юкагиров почти в 2 раза — с 4775 до 2665 человек с середины и до конца XVII века (за 50 лет) вследствие смешения с тунгусским и якутским населением, число которых возросло, также русских переселенцев и чукчей на севере.
Уходы за пределы России и возвращение коренных этносов имели значительное влияние на убыль и рост их численности. Уход в 1669 году крупной группы бурят из-за притеснений со стороны русских приказчиков из Иркутского, Тункинского, Балаганского острогов в Монголию привел к снижению числа плательщиков дани более чем с 1000 до 26 человек, однако в целом за XVII–XIX века их баланс восстановился, в том числе за счет возвратившихся переселенцев. Повторное крупное вынужденное переселение агинских бурят, когда более чем 1/3 части этих этносов эмигрировали в Монголию, произошло в 1908–1914 годах из-за законодательного сокращения кочевых угодий, в результате число бурят в Восточном Забайкалье резко упало; потомки агинских бурят до сих пор проживают в Монголии и Китае. На численность коренного народа ощутимое влияние оказали процессы индустриализации и связанная с ними урбанизация: в Кемеровской области шорцы, самые урбанизированные коренные этносы, массово покидали сельскую местность, которая пустела, и переходили жить в города, что привело к ликвидации созданного в 1926 году Горно-Шорского АО.
Другими значительными факторами, повлиявшими на снижение численности коренных народов, были междоусобицы и войны, не только межэтнические, но и межгосударственные и мировые. Коренное население присоединенных к России земель современных Сибири, Севера, Приамурья, Сахалина только в XVIII–XIX веках было избавлено от нападений и угроз вторжения иноземцев (монголы, джунгары, казахи, каракалпаки и др.).
В Первой мировой войне коренные этносы практически не принимали участия, хотя именно с этого периода они стали нести государственную воинскую повинность. Коренные народы северной и восточной российской Евразии преимущественно отправлялись на военные заводы, шахты, золотые прииски, копи, железные дороги.
В годы Гражданской войны боевые действия также коснулись коренного населения, но сведений о них мало. Имеется предположение о влиянии коллективизации, репрессий на снижение численности коренных народов: уменьшение числа якутов на 2600 человек, хакасов — на 5000, бурят — на 12 000 человек в 1926–1939 годы исключительно было связано с ломкой традиционного вида хозяйствования, принудительной коллективизацией и последствиями репрессий.
В годы Великой Отечественной войны погибло много представителей коренных этносов, равно как и жителей среди всего населения России. Число потерь среди представителей коренных народов в тылу можно проследить, сравнивая данные переписи населения 1939 года и первой послевоенной, 1959 года: за 20 лет коренное население Сибири в целом выросло всего на 1200 человек — с 689 600 до 690 800 человек. Численность большинства коренных народов снизилась: селькупов — на 2100 человек, ненцев — на 1300, эвенков — на 5600, эвенов — на 700, алтайцев — на 4000, шорцев — на 1400, кетов — на 3000, хакасов — на 3800 человек; якутов за 1939–1946 годы — на 20 300 человек. Снижение численности отдельных коренных этносов и замедление их естественного прироста в целом в послевоенные годы обусловлены высокой смертностью среди них в годы войны на фронте и в тылу. В пользу этого аргумента говорит рост численности тувинцев с 62 000 до 99 900 человек за эти же 20 лет — народа, в меньшей степени ощутившего бремя войны из-за позднего воссоединения с Россией. За 1926–1956 годы естественный прирост коренных этносов Сибири составил 8%, тогда как в целом по стране население увеличилось на 20%.
Опустошительные эпидемии по силе своего влияния на численность коренных народов северной и восточной евразийской части России были сопоставимы только с войнами. Из привнесенных извне инфекционных заболеваний наибольшее распространение получил сифилис. С некоторыми инфекционными заболеваниями коренные народы раннее уже встречались; об этом свидетельствуют названия инфекций на языке коренных этносов, которые были известны еще до появления пришлых из России. Например, туберкулез алтайцы, коренные жители Республики Алтай — колыбели тюркоязычных народов, называли «чемет-оору», тиф — «jадыш-оору», сибирскую язву — «кок оору», чуму — «jугуш-оору», что в переводе на русский язык означает «контагиозная болезнь». Более того, в отношении чумы проводились, применяя современную терминологию, радикальные противоэпидемические меры: сжигались юрты, аилы, утварь умерших больных. А такие инфекционные заболевания, как корь, оспа, холера, вошли в обиход алтайцев без изменений их названий. Следовательно, можно предположить, что инфекционные заболевания, сохранившие русскоязычные названия среди коренных народов, были привнесены извне. В 1630–1631 годы среди ненцев свирепствовала оспа, от которой из 245 человек из ясачного списка умерли 177 жителей. В 1850–1851 годы на Енисейском Севере заболели оспой 951 русский и 965 коренных жителей, среди них умерли соответственно 189 и 545 человек [24]. Высокая смертность коренных народов обусловливалась неблагоприятными бытовыми условиями, теснотой контакта с больными, отсутствием иммунитета.
Безусловно, на численность коренных народов влияла и методика их учета. До середины XVIII века учет коренных народов присоединенных к России территорий Северной и Восточной Евразии велся по ясачным спискам, в которые входили только главы семейных юрт коренных жителей как плательщики дани, без учета членов их семей. Кроме того, миграционные процессы, связанные с кочевым образом жизни с сезонным перемещением на огромные территории в поисках лучших пастбищ, также затрудняли учет коренных этносов. Только с 60-х годов XVIII века стал вестись подушный учет коренных жителей, который показал рост их численности. Например, в Сибири в 1720 году в 89 головных юртах проживали 1050 человек, а в 1764 году, за более чем 40 лет, их количество увеличилось почти в 2 раза, составив около 2000 человек, свидетельствуя о ежегодном приросте населения коренных этносов Сибири почти на 2% [22].
Сегодня Российское государство продолжает уделять большое внимание социально-экономическому развитию и сохранению здоровья коренных этносов, особенно КМН. В отличие от крупных по численности коренных народов ССДВ РФ, таких как якуты, буряты, тувинцы, алтайцы и другие, которые достигли устойчивого социально-экономического развития, обеспечивающего полноценное этническое воспроизводство потомков, КМН для сохранения себя как этносов нуждаются в государственной поддержке во всех сферах их жизнедеятельности. В связи с этим наряду с ростом национальной идентичности, начиная со второй половины 1980-х годов, меняется политика государства по отношению к коренным народам ССДВ РФ. Между государством и коренными этносами усиливаются партнерские отношения, пришедшие на смену политике государственного патернализма, на фоне интенсификации индустриализации и промышленного освоения территорий традиционного проживания коренных жителей Севера. Одновременно в этот же период создаются многочисленные общественные организации коренных этносов ССДВ РФ, деятельность которых направлена на защиту своих социально-экономических прав, сохранение этнической самобытности, культуры, традиционного уклада жизни, исконной среды обитания. Кроме региональных и муниципальных этнических общественных организаций, таких как «Ямал — потомкам», созданная коренными этносами, проживающими в ЯНАО; «Ясавэй», объединяющая коренных жителей НАО; Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Чукотки и Колымы и других, в 1990 году была создана Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (АКМНС), объединившая все КМН ССДВ РФ. Деятельность этих общественных организаций тесно связана с правительственными, преимущественно с законодательными органами на федеральном, региональном и муниципальном уровнях: лидеры организаций коренных этносов достаточно часто являются депутатами Государственной думы, сенаторами, членами региональной и муниципальной исполнительной власти. Результатами активной социально-экономической и политической позиции общественных организаций коренных этносов ССДВ РФ и партнерской политики государства по отношению к ним стали разработка и реализация ряда базовых законодательных актов в 1990-е и последующие годы, направленные на защиту прав КМН ССДВ РФ по сохранению их исконной среды обитания, природопользования в соответствии с традиционным укладом жизни и пр. В 1999 г. был принят федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»; в 2000 году — постановление правительства РФ «О Едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации»; в 2006 году — распоряжение правительства РФ «О Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» [25–27]. В настоящее время Концепция устойчивого развития КМН ССДВ РФ пересматривается, разработан обновленный проект документа, который обсуждается и редактируется, в том числе экспертами Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) [28].
В заключение представленной аналитической статьи можно сказать, что исторический путь развития коренных этносов северной и восточной евразийской части России был сложным, пережившим все социально-экономические, военно-политические и другие потрясения, коснувшиеся нашей страны. Формирование взаимоотношений коренных народов с российским государством также прошло сложные этапы. Однако в отличие от других государств (США, Канада) эти взаимоотношения преимущественно строились на принципах социально-экономической выгоды государству, без истребления политической метрополией коренных жителей присоединенных территорий, а с периода установления Советской власти — на принципах государственной поддержки коренных народов российских окраин. В настоящее время взаимоотношения между государством и коренными народами строятся на принципах партнерства.
Кроме перечисленных факторов и причин, способствующих депопуляции коренных народов, наиболее драматичным, на наш взгляд, является тот факт, что в XXI веке, высоко просвещенном, прогрессивном и гуманном, по отношению к предыдущим столетиям продолжаются антигуманные меры контроля роста населения среди коренных народов США, Канады, Мексики путем стерилизации этнических меньшинств (преимущественно коренных женщин) принудительно, или же завуалированно сообщая «жертвам» о необходимости таких вмешательств по медицинским показаниям без их на то согласия [10, 11]. Подобные подходы основаны на бесчеловечной теории и практике профилактической евгеники, называемой современными авторами скользкой евгеникой, сущность которой заключается в прерывании биологической воспроизводимости «не приносящих пользу» и являющихся «бременем» для общества людей медицинскими методами [10–14].
Между тем сегодня коренные народы мира имеют различную степень интеграции с другими популяциями своей страны. Если коренные этносы США и Канады в большинстве своем концентрированы в изолированных резервациях, что ограничивает их контакты с другими сообществами, то аборигены Австралии, Новой Зеландии достаточно тесно интегрированы в социально-экономические слои других представителей своих стран. Однако такая тенденция чревата утратой этнокультурных ценностей — языка, традиций, обычаев и т. д. [3]. Поэтому необходимо найти разумный баланс — сохранив этнические ценности, жить в гармонии с современным обществом.
Исторические этапы формирования и взаимоотношений с государством коренных народов северной и восточной евразийской части России
В России народы, населяющие сегодняшние северные, сибирские и дальневосточные территории, имеют длительную историю формирования их как современных этносов, пройдя множество переселений, генетических смешений, создавая и разрушая целые государства, ханства, каганаты, претерпев крупные захватнические и оборонительные войны, междоусобицы и т. д. По этой причине сложно сказать, какой народ на той или иной территории был первопереселенцем или же «предыдущим завоевателем». К тому же сегодня проблемы коренных народов являются благотворной политической почвой для радикальных идей разрушения единства народов Российской Федерации (РФ). Следовательно, изложение материала по данной теме требует предельной объективности и корректности в раскрытии существовавших и имеющихся на сегодня проблем коренных этносов нашей страны в историческом ракурсе; в отражении эффективности государственных мер, направленных на устранение и решение этих проблем; во внесении собственных предложений и рекомендаций по улучшению той или иной ситуации.
Известно, что Сибирь уже была заселена на заре формирования человечества в современном его виде: на Алтае следы жизни homo sapiens altaiensis — денисовцев, людей, живших в каменном веке (около 300 000 лет назад), — обнаружены в Денисовой пещере. Также до настоящего времени между учеными ведутся споры о происхождении «принцессы Укока» — мумии молодой женщины, найденной археологами в могильнике Ак-Алакы урочища Укок в Республике Алтай. Захоронение относят к типу пазырыкской культуры, основу которой составляли народы, проживавшие на территории современного Алтая, Казахстана и Монголии в VI–III веках до нашей эры.
Сегодня в России в перечень коренных (автохтонных) народов входит около 190 этносов, проживающих в том числе в современных северных и восточных регионах евразийской части страны, которые на законодательном уровне РФ географически объединены как коренные этносы Севера, Сибири и Дальнего Востока (ССДВ) РФ. Судьба коренных жителей упомянутых территорий значительно отличается от описанной выше участи коренных этносов США, Канады, Австралии и других стран. Тем не менее на заре освоения новых территорий Русским (Российским) государством случилось несколько схожих исторических событий, связанных с сопротивлением коренных жителей против пришлых. Восстания коренных народов Северной и Восточной Евразии против казаков, повлиявшие на их численность, происходили в основном из-за злоупотребления последними своей властью, вопреки указам свыше о «ласковом» обращении с коренными жителями, особенно на отдаленных и почти изолированных от центра метрополии территориях Камчатки (коряки, ительмены, юкагиры) и Чукотки (чукчи и другие).
В историко-временном разрезе коренные народы Северной и Восточной Евразии в состав Русского (Российского) государства входили поэтапно. Заселение славянами Европейского Севера России, включающего в себя шесть современных субъектов РФ (республики Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ, Архангельская, Вологодская, Мурманская области), где проживали финно-угорские и карельские племена и самодийская группа этносов (коми, саамы, вепсы, ненцы), началось еще в VI–XI веках [15].
Большинство территорий современных Сибири и Дальнего Востока, где проживало множество коренных народов, было присоединено к России в конце XVI–начале XVII веков, начиная с похода Ермака в Сибирь в 1581 году. Интересна история Республики Тыва, которая после установления Советской власти в России в 1918 году, воспользовалась правом на самоопределение и стала «свободным от протектората» царской России самостоятельным государством, именуемым Тувинской Народной Республикой (ТНР). Однако в 1944 году ТНР добровольно вошла в состав Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) и сегодня является одним из полноправных субъектов РФ. Чукотка и Камчатка вошли в состав России в XVIII веке, а Приамурье и Сахалин были присоединены к Российскому государству в XIX веке.
В России по отношению к внерусскому населению применялись такие термины, как «инородцы» (люди иного рода), «туземцы» (тут + земцы, «тутошние»), «иноверцы» (люди иной веры). Новые присоединенные территории с многочисленными коренными народами, различающимися по этническому составу, культуре, экономическому уровню развития, Российским государством рассматривались прежде всего как источник поступления дохода в казну. Государству необходимо было удержать под своей властью коренные народы и постепенно их интегрировать в свою экономическую, социальную, политическую систему. До начала XVIII века «ясачные инородцы» преимущественно облагались данью пушниной, составляющей почти половину дохода государства. В 1822 году М. М. Сперанским, прогрессивным генерал-губернатором Сибирской губернии, был разработан проект, а затем принят сенатом «Устав об управлении инородцами» — один из первых законодательных актов о защите прав коренных народов, где проблемы выживания связывались с сохранением их среды обитания, культуры, религии, уклада жизни и, главное, устоявшейся системы самоуправления «инородцев», которая была сохранена государством с учетом опыта монгольских завоевателей, а позже интегрирована в структуру органов власти России [16, 17].
С приходом Советской власти вопросы, связанные с коренными народами, также оставались во внимании правительства: в 1926 году было обнародовано постановление Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) и Совета народных комиссаров (СНК) о «Временном положении об управлении туземных народностей и племен северных окраин РСФСР» [18]. Для коренных народов РСФСР 1930-е годы являются переломным моментом, когда стали формироваться национальные округа с административно-территориальным перекроем земель и созданием мест компактного проживания коренных этносов, также началом установления государственного патернализма.
Годы Великой Отечественной войны (ВОВ) и послевоенные годы (1941–1955 гг.) были сложным временем для всей России, где коренные народы сражались за Родину и восстанавливали ее наравне со всеми другими жителями страны.
В 1960–1980-е годы наблюдается абсолютный патернализм государства по отношению к коренным этносам, преимущественно северных территорий, имевший положительные стороны. Сущность государственного патернализма заключалась в формировании института социальной защиты коренных народов, направленного на улучшение доступа к здравоохранению, образованию (открывались национальные школы, представителям коренных этносов создавались условия для обучения в высших учебных заведениях, в том числе в столичных), сохранение культуры, языка, традиционных промыслов наравне с государственной экономикой [19]. С другой стороны, политика государственного патернализма, стремясь в короткие сроки «модернизировать» устоявшийся веками уклад жизни коренных народов, не учитывала их этнокультурные, этнопсихологические особенности, тесную психоэмоциональную связь с окружающей природой и семейно-родовым сообществом. Такие перегибы выражались в желании быстрого перевода коренных этносов Севера от кочевого образа жизни к оседлому; в открытии школ-интернатов, куда помещались дети оленеводов, оторванные от семьи, для обучения, и, главное, советский государственный патернализм не учитывал права КМН Севера на собственное видение своего развития, отстранив представителей этнических групп от решения своих социально-политических проблем и исключив критические дискуссии и инициативы с их стороны [20].
В 1985–1991 годы, в период перестройки, были разрушены совхозы, оленеводческие объединения, заброшены поля, пастбищные угодья, дестабилизированы системы здравоохранения, социальной поддержки, что привело к полному обнищанию большинства коренных народов, особенно малочисленных, вследствие лишения их государственной поддержки.
Из представленного краткого исторического анализа следует, что со сменой социально-экономического и политического строя в России менялись и взаимоотношения между государством и коренными народами, населявшими ее территории. Это отражалось и в изменении терминологии, применяемой в определении коренных народов, и в издании различных нормативно-правовых актов, регулирующих статус коренных этносов. В 1920-е годы стали употребляться такие понятия, как «малые народы Севера, Сибири и Дальнего Востока», «северные национальные меньшинства», «малые туземные народности Севера». В 1993 году в Конституции РФ (статьи 69 и 72) были закреплены гарантии прав коренных народов в соответствии с принципами и нормами международного права, введено понятие «коренные малочисленные народы» и дано его разъяснение как этносов, населяющих территории традиционного проживания своих предков; сохраняющих самобытный уклад жизни; имеющих численность не более 50 000 человек [21].
Сегодня коренные народы в северной и восточной евразийской частях нашей страны представлены более чем 50 этносами. Они широко расселены на севере, начиная с Мурманской области до Чукотки, охватывают юг Сибири и Дальний Восток, проживая в четырех федеральных округах (Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный); в семи республиках (Коми, Карелия, Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Саха (Якутия); в четырех автономных округах (АО) (НАО, Ханты-Мансийский – Югра (ХМАО-Югра), Ямало-Ненецкий (ЯНАО), Чукотский АО); в шести краях (Алтайский, Красноярский, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский); 13 областях (Архангельская, Мурманская, Вологодская, Тюменская, Челябинская, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская, Амурская, Магаданская, Сахалинская).
Демографическое развитие коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в историческом аспекте
Как происходило демографическое развитие коренных народов современных территорий ССДВ РФ, начиная со времени присоединения их к России до сегодняшнего дня, какие факторы влияли и продолжают влиять на колебания их численности? Ответы на эти вопросы мы найдем, опираясь на собственные исследования и на анализ публикаций историков, этнографов, особенно на фундаментальные работы Скобелева С. Г., основанные на исторических фактах, полученных из архивных документов — ясачных книг XVII–XVIII веков, материалов ревизий XVIII–XIX веков, данных переписей населения в 1897 году и в последующее время, сведений по репрессированным представителям коренных народов в 1930-е годы и т. д. [22].
Имеется устойчивое представление о вымирании «инородцев», истреблении их казаками-завоевателями, обусловленном враждебной политикой Русского (Российского) государства по отношению к коренным народам присоединенных земель. Подобные высказывания преимущественно встречаются в зарубежных публикациях, также выражают мнение отечественных историков-публицистов областнического направления, желавших отделения, в частности, Сибири, от Российского государства [22]. Между тем приход русского народа на современные северные, сибирские и дальневосточные земли принес много положительного: прекратились междоусобные войны между коренными народами, усилились межэтнические торгово-обменные отношения, уменьшился экономический гнет (принятие православия туземцем освобождало его от несения налоговой повинности), стали безопасными границы (с Джунгарией, Китаем на окраинах Сибири, Америкой — на Чукотке) [23]. Первые десятилетия ожесточенного сопротивления более крупных по численности коренных этносов (ханты, манси, ненцы, сибирские татары, енисейские киргизы, буряты, якуты) против пришлых казаков (см. выше) сменились постепенной их интеграцией в систему Российского государства, сказавшись на изменении демографических показателей коренных народов. В Томском уезде за 200 лет, с 20-х годов XVII века до 1820 года, численность коренных этносов увеличилась в 3,6 раза — с 2500 до 9000 человек, преимущественно за счет роста рождаемости, с естественным приростом населения 0,5% в год. В целом по Сибири, включая Дальний Восток и Северо-Восток, численность коренного населения в начале и середине XVII века составляла около 200 000–160 000 человек, а к 1897 году, согласно переписи, увеличилась в 4 раза, достигнув 822 000 человек. Только за 1816–1897 годы численность коренного мужского населения выросла на 87,7% — с 220 000 до 413 000 человек. Значителен рост численности якутов: за 250 лет (к концу XIX века) их численность увеличилась с 40 000 до 245 000 человек. Оставалась стабильной численность даже тофаларов, небольшого народа, число которых в 1837–1914 годы составило 431–447 человек соответственно.
Однако наблюдается и существенная убыль численности отдельных этносов на определенных территориях, обусловленная переселением, миграцией, войнами, эпидемиями, уходом за пределы России, насильственным угоном иноземцами, урбанизацией, ассимиляцией, вызванной как межэтническими браками, так и смешением их с пришлыми русскими. Наиболее ярким примером межэтнических ассимиляций (метисации) является снижение численности юкагиров почти в 2 раза — с 4775 до 2665 человек с середины и до конца XVII века (за 50 лет) вследствие смешения с тунгусским и якутским населением, число которых возросло, также русских переселенцев и чукчей на севере.
Уходы за пределы России и возвращение коренных этносов имели значительное влияние на убыль и рост их численности. Уход в 1669 году крупной группы бурят из-за притеснений со стороны русских приказчиков из Иркутского, Тункинского, Балаганского острогов в Монголию привел к снижению числа плательщиков дани более чем с 1000 до 26 человек, однако в целом за XVII–XIX века их баланс восстановился, в том числе за счет возвратившихся переселенцев. Повторное крупное вынужденное переселение агинских бурят, когда более чем 1/3 части этих этносов эмигрировали в Монголию, произошло в 1908–1914 годах из-за законодательного сокращения кочевых угодий, в результате число бурят в Восточном Забайкалье резко упало; потомки агинских бурят до сих пор проживают в Монголии и Китае. На численность коренного народа ощутимое влияние оказали процессы индустриализации и связанная с ними урбанизация: в Кемеровской области шорцы, самые урбанизированные коренные этносы, массово покидали сельскую местность, которая пустела, и переходили жить в города, что привело к ликвидации созданного в 1926 году Горно-Шорского АО.
Другими значительными факторами, повлиявшими на снижение численности коренных народов, были междоусобицы и войны, не только межэтнические, но и межгосударственные и мировые. Коренное население присоединенных к России земель современных Сибири, Севера, Приамурья, Сахалина только в XVIII–XIX веках было избавлено от нападений и угроз вторжения иноземцев (монголы, джунгары, казахи, каракалпаки и др.).
В Первой мировой войне коренные этносы практически не принимали участия, хотя именно с этого периода они стали нести государственную воинскую повинность. Коренные народы северной и восточной российской Евразии преимущественно отправлялись на военные заводы, шахты, золотые прииски, копи, железные дороги.
В годы Гражданской войны боевые действия также коснулись коренного населения, но сведений о них мало. Имеется предположение о влиянии коллективизации, репрессий на снижение численности коренных народов: уменьшение числа якутов на 2600 человек, хакасов — на 5000, бурят — на 12 000 человек в 1926–1939 годы исключительно было связано с ломкой традиционного вида хозяйствования, принудительной коллективизацией и последствиями репрессий.
В годы Великой Отечественной войны погибло много представителей коренных этносов, равно как и жителей среди всего населения России. Число потерь среди представителей коренных народов в тылу можно проследить, сравнивая данные переписи населения 1939 года и первой послевоенной, 1959 года: за 20 лет коренное население Сибири в целом выросло всего на 1200 человек — с 689 600 до 690 800 человек. Численность большинства коренных народов снизилась: селькупов — на 2100 человек, ненцев — на 1300, эвенков — на 5600, эвенов — на 700, алтайцев — на 4000, шорцев — на 1400, кетов — на 3000, хакасов — на 3800 человек; якутов за 1939–1946 годы — на 20 300 человек. Снижение численности отдельных коренных этносов и замедление их естественного прироста в целом в послевоенные годы обусловлены высокой смертностью среди них в годы войны на фронте и в тылу. В пользу этого аргумента говорит рост численности тувинцев с 62 000 до 99 900 человек за эти же 20 лет — народа, в меньшей степени ощутившего бремя войны из-за позднего воссоединения с Россией. За 1926–1956 годы естественный прирост коренных этносов Сибири составил 8%, тогда как в целом по стране население увеличилось на 20%.
Опустошительные эпидемии по силе своего влияния на численность коренных народов северной и восточной евразийской части России были сопоставимы только с войнами. Из привнесенных извне инфекционных заболеваний наибольшее распространение получил сифилис. С некоторыми инфекционными заболеваниями коренные народы раннее уже встречались; об этом свидетельствуют названия инфекций на языке коренных этносов, которые были известны еще до появления пришлых из России. Например, туберкулез алтайцы, коренные жители Республики Алтай — колыбели тюркоязычных народов, называли «чемет-оору», тиф — «jадыш-оору», сибирскую язву — «кок оору», чуму — «jугуш-оору», что в переводе на русский язык означает «контагиозная болезнь». Более того, в отношении чумы проводились, применяя современную терминологию, радикальные противоэпидемические меры: сжигались юрты, аилы, утварь умерших больных. А такие инфекционные заболевания, как корь, оспа, холера, вошли в обиход алтайцев без изменений их названий. Следовательно, можно предположить, что инфекционные заболевания, сохранившие русскоязычные названия среди коренных народов, были привнесены извне. В 1630–1631 годы среди ненцев свирепствовала оспа, от которой из 245 человек из ясачного списка умерли 177 жителей. В 1850–1851 годы на Енисейском Севере заболели оспой 951 русский и 965 коренных жителей, среди них умерли соответственно 189 и 545 человек [24]. Высокая смертность коренных народов обусловливалась неблагоприятными бытовыми условиями, теснотой контакта с больными, отсутствием иммунитета.
Безусловно, на численность коренных народов влияла и методика их учета. До середины XVIII века учет коренных народов присоединенных к России территорий Северной и Восточной Евразии велся по ясачным спискам, в которые входили только главы семейных юрт коренных жителей как плательщики дани, без учета членов их семей. Кроме того, миграционные процессы, связанные с кочевым образом жизни с сезонным перемещением на огромные территории в поисках лучших пастбищ, также затрудняли учет коренных этносов. Только с 60-х годов XVIII века стал вестись подушный учет коренных жителей, который показал рост их численности. Например, в Сибири в 1720 году в 89 головных юртах проживали 1050 человек, а в 1764 году, за более чем 40 лет, их количество увеличилось почти в 2 раза, составив около 2000 человек, свидетельствуя о ежегодном приросте населения коренных этносов Сибири почти на 2% [22].
Сегодня Российское государство продолжает уделять большое внимание социально-экономическому развитию и сохранению здоровья коренных этносов, особенно КМН. В отличие от крупных по численности коренных народов ССДВ РФ, таких как якуты, буряты, тувинцы, алтайцы и другие, которые достигли устойчивого социально-экономического развития, обеспечивающего полноценное этническое воспроизводство потомков, КМН для сохранения себя как этносов нуждаются в государственной поддержке во всех сферах их жизнедеятельности. В связи с этим наряду с ростом национальной идентичности, начиная со второй половины 1980-х годов, меняется политика государства по отношению к коренным народам ССДВ РФ. Между государством и коренными этносами усиливаются партнерские отношения, пришедшие на смену политике государственного патернализма, на фоне интенсификации индустриализации и промышленного освоения территорий традиционного проживания коренных жителей Севера. Одновременно в этот же период создаются многочисленные общественные организации коренных этносов ССДВ РФ, деятельность которых направлена на защиту своих социально-экономических прав, сохранение этнической самобытности, культуры, традиционного уклада жизни, исконной среды обитания. Кроме региональных и муниципальных этнических общественных организаций, таких как «Ямал — потомкам», созданная коренными этносами, проживающими в ЯНАО; «Ясавэй», объединяющая коренных жителей НАО; Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Чукотки и Колымы и других, в 1990 году была создана Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (АКМНС), объединившая все КМН ССДВ РФ. Деятельность этих общественных организаций тесно связана с правительственными, преимущественно с законодательными органами на федеральном, региональном и муниципальном уровнях: лидеры организаций коренных этносов достаточно часто являются депутатами Государственной думы, сенаторами, членами региональной и муниципальной исполнительной власти. Результатами активной социально-экономической и политической позиции общественных организаций коренных этносов ССДВ РФ и партнерской политики государства по отношению к ним стали разработка и реализация ряда базовых законодательных актов в 1990-е и последующие годы, направленные на защиту прав КМН ССДВ РФ по сохранению их исконной среды обитания, природопользования в соответствии с традиционным укладом жизни и пр. В 1999 г. был принят федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»; в 2000 году — постановление правительства РФ «О Едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации»; в 2006 году — распоряжение правительства РФ «О Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» [25–27]. В настоящее время Концепция устойчивого развития КМН ССДВ РФ пересматривается, разработан обновленный проект документа, который обсуждается и редактируется, в том числе экспертами Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) [28].
В заключение представленной аналитической статьи можно сказать, что исторический путь развития коренных этносов северной и восточной евразийской части России был сложным, пережившим все социально-экономические, военно-политические и другие потрясения, коснувшиеся нашей страны. Формирование взаимоотношений коренных народов с российским государством также прошло сложные этапы. Однако в отличие от других государств (США, Канада) эти взаимоотношения преимущественно строились на принципах социально-экономической выгоды государству, без истребления политической метрополией коренных жителей присоединенных территорий, а с периода установления Советской власти — на принципах государственной поддержки коренных народов российских окраин. В настоящее время взаимоотношения между государством и коренными народами строятся на принципах партнерства.
ЛИТЕРАТУРА
1. Мосолова Л. М., Бондарев А. В., Зыкин А. В. Концептуализация понятия «коренные народы»: историография, интерпретации // Вестник гуманитарного образования. — 2021. — № 4 (24). — С. 50–59. — doi: 10.25730/VSU.2070.21.051.
2. Соколовский С. В. Аборигенность и права на территорию: антропологические и биогеографические параллели // Ab Imperio. — 2010. — № 3. — С. 320–321.
3. Indigenous by definition, experience, or world view. Editorial. BMJ. — 2003: 403–404.
4. Мосолова Л. М., Бондарев А. В., Зыкин А. В. «Коренные народы»: многомерность проблематизации // Общество. Среда. Развитие. — 2022. — № 1. — С.19–24.
5. United Nations. Department of economic and social affairs indigenous peoples [еlectronic resource]. — URL: https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/about-us/permanent-forum-on-indigenous-issues.html (date of access: 25.12.2024).
6. Mapped: the world’s indigenous peoples [еlectronic resource]. — URL: https://www.visualcapitalist.com/cp/mapped-the-worlds-indigenous-peoples (date of access: 10.12.2024).
7. Ананидзе Ф. Р. Правовое положение коренных народов Австралии и Новой Зеландии // Вестник РУДН. Сер. «Юридические науки». — 2002. — № 1. — С. 25–34.
8. Stannard D. E. American holocaust: the conquest of the New World. New York: Oxford university press. 1993 [еlectronic resource]. — URL: https://archive.org/details/american holocaus00stan (date of access: 22.12.2024).
9. Mathews J. D. Historical, social and biological understanding is needed to improve Aboriginal health. Recent Adv Microbiol. 1997; 5: 257–334.
10. Smaw E. D. Uterus collectors: The case for reproductive justice for African American, Native American, and Hispanic American female victims of eugenics programs in the United States. Bioethics. 2022; 36 (3): 318–327. — doi: 10.1111/bioe. 12977.
11. Sanchez-Rivera R. From preventive eugenics to slippery eugenics: Population control and contemporary sterilizations targeted to indigenous peoples in Mexico. Sociology of health and illness. 2023; 45: 128–144. — doi: 10.1111/1467–9566.13556.
12. Black K. A., Rich R., Felske-Dursken C. Forced and coerced sterilization of indigenous peoples: considerations for health care providers. J Obstet Gynaecol Can J Obstet Gynaecol Can. 2021; 43 (9): 1090–1093. — doi: 10.1016/j.jogc.2021.04. 006.
13. Reilly Ph. R. Eugenics and involuntary sterilization: 1907–2015. The Annual Review of Genomics and Human Genetic. 2015; 16: 351–68. — doi:10.1146/annurev-genom-090314-024930.
14.Amy J-J., Rowlands S. Legalised non-consensual sterilization-eugenics put into practice before 1945, and aftermath. Part 2: Europe. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2018; 23 (3): 194–200. — doi: 10.1080/13625187.2018.1458227.
15. Соколова Ф. Х. Динамика этнонациональной структуры населения Европейского Севера России в XX–начале XXI века // Вестник Северного (арктического) федерального университета. Серия «Гуманитарные и социальные науки». — 2015. — № 6. — С. 38–47. — doi 10.17238/issn2227-6564.2015.6.38.
16. Устав об управлении инородцев, 1822 (автор М. М. Сперанский) [электронный ресурс]. — URL: https://constitutions.ru/?p=20069 (дата обращения: 16.01.2025).
17. Жалсанова Б. Ц., Курас Л. В. Реализация реформы М. Сперанского как проявление свободомыслия коренных народов Восточной Сибири
в XIX–начале ХХ века (на материалах деятельности бурятских степных дум) // Известия Иркутского государственного университета. — 2015. — № 11. — С. 45–50 [электронный ресурс]. — URL: http://isu.ru/izvestia (дата обращения: 14.01.2025).
18. Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 25 октября 1926 года «Об утверждении Временного Положения об управлении туземных народностей и племен северных окраин Р.С.Ф.С.Р.» [электронный ресурс]. — URL: http://bsk.nios.ru/content/dekret-vcik-snk-rsfsr-ot-25-10-1926-goda-ob-utverzhdenii-vremennogo-polozhe-niya-ob (дата обращения: 24.12.2024).
19. Булгакова Т. Д. Илья Самуилович Гуревич — о политике патернализма в отношении коренных народов Севера // Вестник антропологии. — 2020. — № 3 (51). — С. 30–40. — doi: 10.33876/2311-0546/2020-51-3/30-40.
20. Григорьев С. А. Власть и коренные народы в Азиатской Арктике: предпосылки возникновения и формирование аборигенных движений в регионе // Северо-Восточный гуманитарный вестник. — 2018. — № 4 (25). — С. 33–38. — doi: 10.25693/IGI2218-1644.2018.04.003.
21. Конституция Российской Федерации, статьи 69,72 [электронный ресурс]. — URL: http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/65ae61da2b59431b4dab0e 924718277731bdc3d1/ (дата обращения: 12.12.2024).
22. Скобелев С. Г. Демография коренных народов Сибири в XVII–XX вв. Колебания численности и их причины // Сибирская заимка. — 1999. — № 1 [электронный ресурс]. — URL: https://zaimka.ru/skobelev-demography/?ysclid=lsotc4g7ua801180458 (дата обращения: 15.12.2024).
23. Тураев В. А. Цивилизаторская миссия русского народа в культурном пространстве Тихоокеанской России и проблемы постсоветской интеграции // Гуманитарные проблемы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). — 2016. — № 2 (92). — С. 152–169.
24. Латкин Н. В. Енисейская губерния. Ее прошлое и настоящее. — СПб., 1892. — 449 с.
25. Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» [электронный ресурс]. — URL: https://base.garant.ru/180406/?ysclid=m5zgsqd4w926489240 (дата обращения: 25.12.2024).
26. Постановление правительства РФ от 24 марта 2000 г. № 255 «О Едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации» [электронный ресурс]. — URL: https://base.garant.ru/181870/?ysclid=m5zgrku2df681123603 (дата обращения: 26.12.2024).
27. Распоряжение правительства РФ от 04.02.2009 № 132-р «О Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» [электронный ресурс]. — URL: http://government.ru docs/30063 (дата обращения: 26.12.2024).
28. Проект распоряжения правительства Российской Федерации «Об утверждении Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на период до 2036 года» (подготовлен ФАДН России 18.10.2024) [электронный ресурс]. — URL: https://www.garant.ru/products/ ipo/prime/doc/56904834/? ysclid= m5zgiciax1719925065 (дата обращения: 12.01.2025).
2. Соколовский С. В. Аборигенность и права на территорию: антропологические и биогеографические параллели // Ab Imperio. — 2010. — № 3. — С. 320–321.
3. Indigenous by definition, experience, or world view. Editorial. BMJ. — 2003: 403–404.
4. Мосолова Л. М., Бондарев А. В., Зыкин А. В. «Коренные народы»: многомерность проблематизации // Общество. Среда. Развитие. — 2022. — № 1. — С.19–24.
5. United Nations. Department of economic and social affairs indigenous peoples [еlectronic resource]. — URL: https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/about-us/permanent-forum-on-indigenous-issues.html (date of access: 25.12.2024).
6. Mapped: the world’s indigenous peoples [еlectronic resource]. — URL: https://www.visualcapitalist.com/cp/mapped-the-worlds-indigenous-peoples (date of access: 10.12.2024).
7. Ананидзе Ф. Р. Правовое положение коренных народов Австралии и Новой Зеландии // Вестник РУДН. Сер. «Юридические науки». — 2002. — № 1. — С. 25–34.
8. Stannard D. E. American holocaust: the conquest of the New World. New York: Oxford university press. 1993 [еlectronic resource]. — URL: https://archive.org/details/american holocaus00stan (date of access: 22.12.2024).
9. Mathews J. D. Historical, social and biological understanding is needed to improve Aboriginal health. Recent Adv Microbiol. 1997; 5: 257–334.
10. Smaw E. D. Uterus collectors: The case for reproductive justice for African American, Native American, and Hispanic American female victims of eugenics programs in the United States. Bioethics. 2022; 36 (3): 318–327. — doi: 10.1111/bioe. 12977.
11. Sanchez-Rivera R. From preventive eugenics to slippery eugenics: Population control and contemporary sterilizations targeted to indigenous peoples in Mexico. Sociology of health and illness. 2023; 45: 128–144. — doi: 10.1111/1467–9566.13556.
12. Black K. A., Rich R., Felske-Dursken C. Forced and coerced sterilization of indigenous peoples: considerations for health care providers. J Obstet Gynaecol Can J Obstet Gynaecol Can. 2021; 43 (9): 1090–1093. — doi: 10.1016/j.jogc.2021.04. 006.
13. Reilly Ph. R. Eugenics and involuntary sterilization: 1907–2015. The Annual Review of Genomics and Human Genetic. 2015; 16: 351–68. — doi:10.1146/annurev-genom-090314-024930.
14.Amy J-J., Rowlands S. Legalised non-consensual sterilization-eugenics put into practice before 1945, and aftermath. Part 2: Europe. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2018; 23 (3): 194–200. — doi: 10.1080/13625187.2018.1458227.
15. Соколова Ф. Х. Динамика этнонациональной структуры населения Европейского Севера России в XX–начале XXI века // Вестник Северного (арктического) федерального университета. Серия «Гуманитарные и социальные науки». — 2015. — № 6. — С. 38–47. — doi 10.17238/issn2227-6564.2015.6.38.
16. Устав об управлении инородцев, 1822 (автор М. М. Сперанский) [электронный ресурс]. — URL: https://constitutions.ru/?p=20069 (дата обращения: 16.01.2025).
17. Жалсанова Б. Ц., Курас Л. В. Реализация реформы М. Сперанского как проявление свободомыслия коренных народов Восточной Сибири
в XIX–начале ХХ века (на материалах деятельности бурятских степных дум) // Известия Иркутского государственного университета. — 2015. — № 11. — С. 45–50 [электронный ресурс]. — URL: http://isu.ru/izvestia (дата обращения: 14.01.2025).
18. Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 25 октября 1926 года «Об утверждении Временного Положения об управлении туземных народностей и племен северных окраин Р.С.Ф.С.Р.» [электронный ресурс]. — URL: http://bsk.nios.ru/content/dekret-vcik-snk-rsfsr-ot-25-10-1926-goda-ob-utverzhdenii-vremennogo-polozhe-niya-ob (дата обращения: 24.12.2024).
19. Булгакова Т. Д. Илья Самуилович Гуревич — о политике патернализма в отношении коренных народов Севера // Вестник антропологии. — 2020. — № 3 (51). — С. 30–40. — doi: 10.33876/2311-0546/2020-51-3/30-40.
20. Григорьев С. А. Власть и коренные народы в Азиатской Арктике: предпосылки возникновения и формирование аборигенных движений в регионе // Северо-Восточный гуманитарный вестник. — 2018. — № 4 (25). — С. 33–38. — doi: 10.25693/IGI2218-1644.2018.04.003.
21. Конституция Российской Федерации, статьи 69,72 [электронный ресурс]. — URL: http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/65ae61da2b59431b4dab0e 924718277731bdc3d1/ (дата обращения: 12.12.2024).
22. Скобелев С. Г. Демография коренных народов Сибири в XVII–XX вв. Колебания численности и их причины // Сибирская заимка. — 1999. — № 1 [электронный ресурс]. — URL: https://zaimka.ru/skobelev-demography/?ysclid=lsotc4g7ua801180458 (дата обращения: 15.12.2024).
23. Тураев В. А. Цивилизаторская миссия русского народа в культурном пространстве Тихоокеанской России и проблемы постсоветской интеграции // Гуманитарные проблемы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). — 2016. — № 2 (92). — С. 152–169.
24. Латкин Н. В. Енисейская губерния. Ее прошлое и настоящее. — СПб., 1892. — 449 с.
25. Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» [электронный ресурс]. — URL: https://base.garant.ru/180406/?ysclid=m5zgsqd4w926489240 (дата обращения: 25.12.2024).
26. Постановление правительства РФ от 24 марта 2000 г. № 255 «О Едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации» [электронный ресурс]. — URL: https://base.garant.ru/181870/?ysclid=m5zgrku2df681123603 (дата обращения: 26.12.2024).
27. Распоряжение правительства РФ от 04.02.2009 № 132-р «О Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» [электронный ресурс]. — URL: http://government.ru docs/30063 (дата обращения: 26.12.2024).
28. Проект распоряжения правительства Российской Федерации «Об утверждении Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на период до 2036 года» (подготовлен ФАДН России 18.10.2024) [электронный ресурс]. — URL: https://www.garant.ru/products/ ipo/prime/doc/56904834/? ysclid= m5zgiciax1719925065 (дата обращения: 12.01.2025).
HISTORICAL STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF RELATIONS WITH THE STATE OF THE INDIGENOUS PEOPLES IN NORTHERN AND EASTERN EURASIAN PART OF RUSSIA
KEY WORDS
ABSTRACT
The article reveals a topic of historical formation of indigenous peoples, including minorities, inhabiting the northern and eastern Eurasian territories of Russia, as well as the Arctic regions, within the modern borders of the Russian Federation. There is explained the term«indigenous peoples», its equivalents are given, and the problems of indigenous ethnics in the world are presented. The relationship between historical development of the indigenous peoples of northern and eastern Eurasia and their socio-economic and political relationships with the Russian government over a long period of their coexistence is outlined, the demographic status and reasons for changes in the number of a particular ethnic group are analyzed.
