Ключевые слова
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена описанию проблем оленеводства в арктических регионах нашей страны. Проведен анализ публикаций о текущей ситуации с оленеводством в России, приведены интервью и оценки представителей региональных и муниципальных органов власти, оленеводческих кооперативов и фермеров, экспертов, на основании которых сделан прогноз о том, что северное оленеводство в стране может исчезнуть через 10–15 лет.
В настоящее время оленевод — одна из самых редких профессий. По мнению самих оленеводов, этой специальности невозможно обучить в вузах, оленеводом можно только родиться. Григорий Федосеев в своей повести «Злой дух Ямбуя» прекрасно раскрыл эту проблему в диалоге одной из его героинь — старухи эвенкийки Лангары: «А старика не будет, кто с оленями останется? Дети в интернате учились, книжки читают, много всякого разного знают. А вот чтобы сердце болело за стадо, этому не научили их. Как они останутся с оленями, куда потянут тропу без старика?.. Детей не приучают жить в тайге, другую пищу дают, и они след волка путают со следом собаки, своего оленя не могут найти в стаде, нарты не умеют чинить. А без этой мудрости наших предков они не станут сильными. Они не справятся с тайгой» [1]. Данные события происходили в конце 40-х годов прошлого столетия.
В подтверждение слов героини повести Г. А. Федосеева приведем цитату из эссе, написанного в 2019 году студенткой Арктического колледжа народов Севера Эльвирой Гуляевой: «Выбор специальности для меня не случаен: являясь “дитем природы”, с детства выезжаю с родителями — потомственными оленеводами в тундру помогать пасти оленей и не представляю свою жизнь без кочевья, оленей, природы, поэтому планирую посвятить себя профессии оленевода» [2].
В 2024 году был организован и проведен целый ряд мероприятий регионального, федерального и международного уровней, посвященных проблемам оленеводства в нашей стране. При этом проведенный нами анализ публикаций о текущей ситуации с оленеводством в России дал неутешительный прогноз: северное оленеводство в стране может исчезнуть через 10–15 лет.
Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Красноярского края Семен Пальчин спрогнозировал, что в северной части региона через пять лет практически не будет оленеводов. Он отметил, что в правительстве края уже нет специалистов, которые разбираются в оленеводстве. По его словам, кадровый голод ощущается так же и на отдельных территориях. Например, на Таймыре, где сосредоточено 97% оленьего поголовья края, нет ни одного зоотехника, работающего в хозяйствах, как нет ни одного студента отраслевого вуза. Таким образом, можно сделать вывод, что через пять лет местных специалистов уже не будет [3].
У самого древнего народа Таймыра — нганасан — практически не осталось оленей. Ранее развивавшие оленеводство жители 19 поселков в настоящее время занимаются сезонными промыслами, полностью зависят от краткосрочной путины, миграции диких северных оленей и живут за исключением бюджетников на социальные пособия [4].
Руководство кооператива «Ижемский оленевод и Ко» жалуется, что династии оленеводов постепенно вымирают. В настоящее время молодежь не желает заниматься ремеслом предков, выбирая жизнь в городе вместо традиционного образа жизни коренных жителей тундры. Молодое поколение не привлекает перспектива жить более 10 месяцев в чумах вдали от людей. В ряде районов региона в тундре работают только мужчины, так как школа-интернат в ближайшем селе закрылась, и женщины остаются с детьми в поселках, чтобы те получили образование [5].
В Мурманской области внедрение оседлости в 50-х годах прошлого века помогло улучшить условия жизни оленеводов, но не решило проблему с кадрами. В советское время в Ловозере была построена школа-интернат, в которой дети жили и учились, вместо того чтобы помогать родителям пасти оленей в тундре. Но в то же время раньше, окончив профильное среднее учебное заведение, ребята все же шли в оленеводы. На сегодняшний день ситуация радикально изменилась: они, получив водительские права, устраиваются водителями. Во времена СССР существовали так называемые красные чумы — кочевые школы, которые объезжали детей, находящихся на кочевье с родителями. В настоящее время таких школ практически не осталось, поэтому они сами по себе не могут решить эту проблему. С 2021 года в нашей стране действует программа господдержки традиционной хозяйственной деятельности 19 коренных малочисленных народов Севера, которая в том числе включает в себя финансирование подготовки кадров для занятий традиционными видами деятельности. Но для этой цели надо сначала привлечь в эти традиционные виды деятельности молодое поколение [5].
В подтверждение слов героини повести Г. А. Федосеева приведем цитату из эссе, написанного в 2019 году студенткой Арктического колледжа народов Севера Эльвирой Гуляевой: «Выбор специальности для меня не случаен: являясь “дитем природы”, с детства выезжаю с родителями — потомственными оленеводами в тундру помогать пасти оленей и не представляю свою жизнь без кочевья, оленей, природы, поэтому планирую посвятить себя профессии оленевода» [2].
В 2024 году был организован и проведен целый ряд мероприятий регионального, федерального и международного уровней, посвященных проблемам оленеводства в нашей стране. При этом проведенный нами анализ публикаций о текущей ситуации с оленеводством в России дал неутешительный прогноз: северное оленеводство в стране может исчезнуть через 10–15 лет.
Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Красноярского края Семен Пальчин спрогнозировал, что в северной части региона через пять лет практически не будет оленеводов. Он отметил, что в правительстве края уже нет специалистов, которые разбираются в оленеводстве. По его словам, кадровый голод ощущается так же и на отдельных территориях. Например, на Таймыре, где сосредоточено 97% оленьего поголовья края, нет ни одного зоотехника, работающего в хозяйствах, как нет ни одного студента отраслевого вуза. Таким образом, можно сделать вывод, что через пять лет местных специалистов уже не будет [3].
У самого древнего народа Таймыра — нганасан — практически не осталось оленей. Ранее развивавшие оленеводство жители 19 поселков в настоящее время занимаются сезонными промыслами, полностью зависят от краткосрочной путины, миграции диких северных оленей и живут за исключением бюджетников на социальные пособия [4].
Руководство кооператива «Ижемский оленевод и Ко» жалуется, что династии оленеводов постепенно вымирают. В настоящее время молодежь не желает заниматься ремеслом предков, выбирая жизнь в городе вместо традиционного образа жизни коренных жителей тундры. Молодое поколение не привлекает перспектива жить более 10 месяцев в чумах вдали от людей. В ряде районов региона в тундре работают только мужчины, так как школа-интернат в ближайшем селе закрылась, и женщины остаются с детьми в поселках, чтобы те получили образование [5].
В Мурманской области внедрение оседлости в 50-х годах прошлого века помогло улучшить условия жизни оленеводов, но не решило проблему с кадрами. В советское время в Ловозере была построена школа-интернат, в которой дети жили и учились, вместо того чтобы помогать родителям пасти оленей в тундре. Но в то же время раньше, окончив профильное среднее учебное заведение, ребята все же шли в оленеводы. На сегодняшний день ситуация радикально изменилась: они, получив водительские права, устраиваются водителями. Во времена СССР существовали так называемые красные чумы — кочевые школы, которые объезжали детей, находящихся на кочевье с родителями. В настоящее время таких школ практически не осталось, поэтому они сами по себе не могут решить эту проблему. С 2021 года в нашей стране действует программа господдержки традиционной хозяйственной деятельности 19 коренных малочисленных народов Севера, которая в том числе включает в себя финансирование подготовки кадров для занятий традиционными видами деятельности. Но для этой цели надо сначала привлечь в эти традиционные виды деятельности молодое поколение [5].
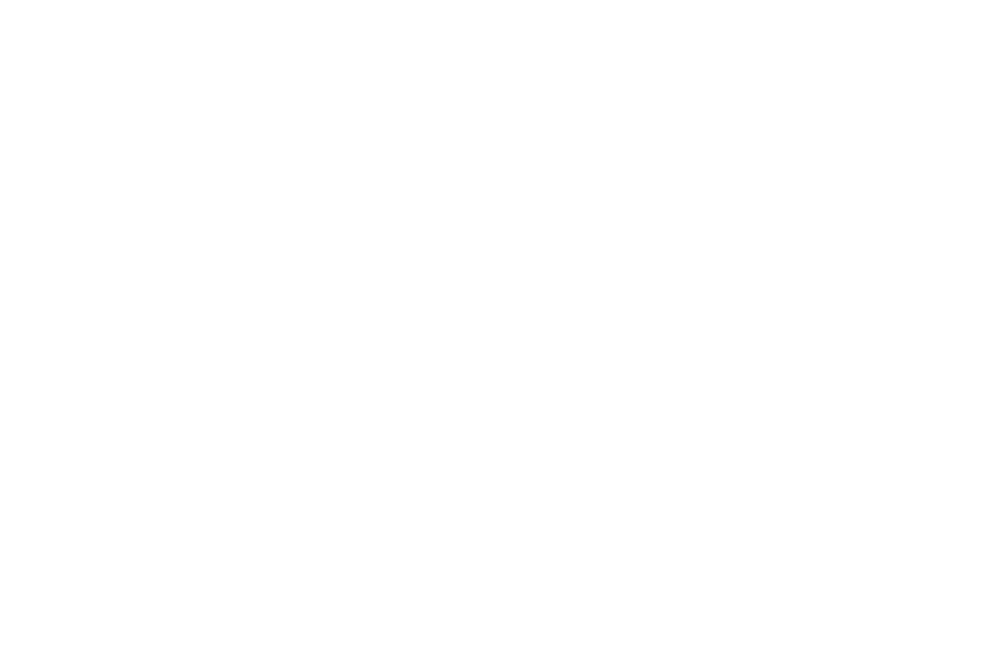
Фото: Карпухин Сергей
В 2023 году правительство ЯНАО расширило субсидию на производство оленины (ранее ее выдавали только на переработку мяса, а на сегодняшний день также для реализации своей продукции в населенных пунктах, где находятся хозяйства). Это, с одной стороны, позволило поднять зарплату оленеводам, но с другой — стало очевидно, что одним повышением зарплат кадровых проблем оленеводства не решить. Оленеводство — это в первую очередь призвание, а значит, людей надо мотивировать еще и другими способами [6].
Депутат Государственной думы Я. Нилов уверен, что рост зарплат не решит проблему с кадрами: много денег в этой профессии все равно не заработаешь. Значит, нужны другие меры стимулирования людей [5]. Депутат Государственной думы Елена Евтюхова полагает, что достойная заработная плата также важна. При этом, по ее словам, в настоящий момент нужно повышать престиж профессии оленевода, которая является чем-то большим, чем просто работа в тундре, — это многовековой уклад жизни коренных малочисленных народов. Представители этих народов сохраняют и передают свои уникальные знания, опыт, культуру подрастающему поколению, а потому «всегда должны быть в почете» [7].
Директор Ямальской опытной станции по изучению генетики северных оленей Максим Максимчик уверен, что необходимо заинтересовать крупный бизнес, тогда проблемы будут решаться гораздо быстрее. По его мнению, задачу по сокращению поголовья одновременно с повышением качества продукции и увеличением объема глубокой переработки невозможно решить на уровне регионов [7].
Помимо анализа публикаций мы провели интервью с молодыми специалистами, работающими в области оленеводства. На вопрос: «Возможно ли повысить престиж профессии оленевода?» — нам ответила начальник УХК «Паюта» МУП «Паюта» Полина Гальчук, которая четыре года назад приехала работать в ЯНАО после окончания вуза. Следует отметить, что выросла она в г. Луге Ленинградской области. За четыре года постоянного непосредственного общения с оленеводами она получила достаточно полное представление об особенностях кочевого быта и жизни оленеводов, а также об их чертах поведения.
По словам П. Гальчук, огромное количество профессий, некогда широко востребованных, в наши дни становится пережитками прошлого и теряется в анналах истории. Никто из современной молодежи уже не знает, кто такие телефонистки или таперы. Находится на пути к забвению и профессия «оленевод». Оленевод хоть и называется профессией, но в российских реалиях это скорее образ жизни. Оттого она так ценна и так тяжела: ее впитывают с молоком матери.
Начальник УХК «Паюта» подчеркнула, что, несмотря на тенденцию откровенного вымирания оленеводства, спрос на саму оленину высок, как никогда, — санкции и ориентация на органически чистые продукты питания сделали потребление оленины среди населения РФ очень востребованным. И, несмотря на то что объемы мясозаготовки год от года на предприятиях убоя показывают рост, в условиях переполненности стад оленеводов того же ЯНАО это капля в море. Тысячи квадратных километров тундры превращены в бесплодные пустыни из-за бесконтрольного перевыпаса огромных поголовий домашних оленей и особенностей воспроизведения оленьих пастбищ, которые очень медленно восстанавливаются.
Например, с 1970-х годов поголовье оленей на острове Колгуев поддерживалось на уровне 5000–6500 особей. В начале 2000-х годов контроль за популяцией был утерян, в итоге весной 2012 года в сельскохозяйственном производственном кооперативе (СПК) насчитывалось уже свыше 12 000 голов. Следствием такого роста, по данным департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого округа, стало истощение, выбытие и деградация пастбищ. Обследование трупов оленей, проведенное на острове, выявило их крайнее истощение: у большинства обнаружено воспаление слизистой желудочного тракта [8].
По мнению ветерана отрасли Валерия Толстоброва, который работал в СПК «Колгуев» в 2010–2011 годы, главная причина кризисной ситуации в оленеводстве острова — отсутствие профессиональных кадров и желания молодого поколения перенимать опыт старшего поколения и заниматься традиционной деятельностью. По его словам, работники СПК «Колгуев» — это не оленеводы, их скорее можно назвать «водителями снегоходов», приезжающими в стадо только за мясом. Практически все они жили в поселке, а в тундру наведывались удовлетворить собственные нужды — поохотиться, порыбачить, сходить за ягодами и грибами. Однако зарплату они регулярно получали именно как оленеводы. Все эти обстоятельства и привели к критической ситуации — массовому падежу оленей, произошедшему на острове в 2013 году [9].
Объективную оценку произошедшим событиям дал председатель СПК РК «Заполярье» Михаил Кисляков. По его словам, ситуация с падежом стада на острове Колгуев выявила основные современные проблемы оленеводческой отрасли НАО:
1) утеря контроля за регулированием количества частных оленей со стороны местных властей. Доля частного поголовья (около 30%), которая в округе увеличивается, никак не обоснована;
2) отсутствие механизмов государственного регулирования. Например, на острове Колгуев, на Канине популяция увеличилась, вследствие чего перестало хватать кормовой базы. Представителям органов власти необходимо вести с оленеводами конструктивные переговоры, попытаться их убедить, прийти к обоюдному решению. Однако этого не делается. Последняя официальная статистика «Ненецкстата» по количеству оленей в округе обновлялась в 2013 году: поголовье в регионе составило 180 128 оленей, в том числе частное — 43 248, семейно-родовых общин коренных малочисленных народов Севера — 6692;
3) кадровый голод в оленеводческой отрасли округа. По словам Михаила Кислякова, в ближайшее время его оленеводам исполнится в среднем по 55 лет, и они уйдут на пенсию. Большая проблема — где найти новых? А значит, придется отказываться от оленеводства [10].
В своем интервью Полина Гальчук подчеркнула, что программа правительства ЯНАО по снижению численности домашнего оленя должна не только помочь в решении проблемы деградации пастбищ, но и повысить уровень мясозаготовки. Однако оленеводы против снижения численности своего поголовья, они относятся к программе крайне негативно, считая, что их опять хотят обобрать, обмануть и надругаться над их культурой и укладом жизни, ведь большое поголовье — это прежде всего статус, капитал и способ заработка, хотя вряд ли весьма эффективный. Далеко не все из оленеводческих семей, имея тысячные поголовья, сдают даже малую часть из того, что имеют, а кое-кто не сдает вовсе.
«Казалось бы, почему? — сетует начальник УХК “Паюта”. — При цене мяса оленя в ЯНАО в 450 руб. за 1 кг продукта первой категории и 150 руб. — второй, сдавая даже по 70 голов, можно получить около 1 млн руб., а имея тысячные поголовья и сдавая по 1000 голов в год, можно зарабатывать в среднем по 14–15 млн руб., не теряя при этом воспроизводимости стада».
На вопрос, почему так мало крупных сдатчиков, Полина Гальчук отвечает: «Наверное, потому, что процесс поставки оленя на убой трудоемкий, травмоопасный и кажется оленеводам абсолютно бессмысленным. Когда ты живешь круглый год в тундре на дикоросах, мясе собственных оленей и продуктах из ближайшего тундрового магазина, носишь одежду, которую шьешь сам, топишь чум дровами, выделенными государством, получаешь чум и нарты по материнскому “Чумовому капиталу”, получаешь “кочевые”, учишь детей в интернате и в вузах на все те же государственные деньги, ездишь на “Ямахе”, выигранной в гонке на оленьих упряжках, — и так хорошо живется. И, главное, в город в выделенную государством квартиру тоже совсем не хочется, там воздух не такой — голова болеть начинает».
По мнению эксперта, несмотря на то, что жизнь оленевода, как бы он ни прибеднялся, достаточно обустроена государством, все меньше детей оленеводов возвращаются к кочевой жизни после обучения в интернатах и вузах, ведь, познав прелести современной городской жизни, очень трудно захотеть вернуться обратно. Да и сами живущие в чумах на постоянной основе не всегда рады своему положению: часто чумработницы жалуются на то, что с радостью обменяли бы чум на город, но муж не дает. И ведь самая большая боль таких женщин — это отсутствие стиральной машинки в чуме.
Следует отметить, что, говоря о профессии «оленевод», люди очень часто забывают о неотделимой от нее специальности «чумработница». На плечах этих женщин находится полное обеспечение быта семьи в практически первобытных условиях жизни.
По словам начальника УХК «Паюта», жизнь оленевода и чумработницы в условиях тундры и содержания стада — это тяжелейший труд, который под силу не всем людям. И их трудом очень часто стремятся воспользоваться более ушлые собратья. Их жертвами становятся в основном малооленные и не совсем благополучные семьи. Принцип работы посредников (в юридической среде их принято называть главами общин) «до безобразия прост». В летний период глава общины или его доверенное лицо колесит по тундре и агитирует оленеводов сдавать оленей «на него». В обязанности общины обычно входит большой перечень работ в рамках помощи оленеводам. Главная — документооборот: из-за распространенной неграмотности населения тундры постоянно возникают проблемы как с юридическими вопросами, так и с элементарным чтением и письмом. Но это в идеале, а в реальности все часто ограничивается возникновением у оленевода «долговой иглы», которая представляет собой обязательство сдавать оленей в данном году именно главе общины, пока долг не будет уплачен: зачастую в чумах так не вовремя ломаются снегоходы «Буран», которые надо покупать или чинить, а на новеньком «Буране» так приятно ездить еще задолго до убойного сезона.
Депутат Государственной думы Я. Нилов уверен, что рост зарплат не решит проблему с кадрами: много денег в этой профессии все равно не заработаешь. Значит, нужны другие меры стимулирования людей [5]. Депутат Государственной думы Елена Евтюхова полагает, что достойная заработная плата также важна. При этом, по ее словам, в настоящий момент нужно повышать престиж профессии оленевода, которая является чем-то большим, чем просто работа в тундре, — это многовековой уклад жизни коренных малочисленных народов. Представители этих народов сохраняют и передают свои уникальные знания, опыт, культуру подрастающему поколению, а потому «всегда должны быть в почете» [7].
Директор Ямальской опытной станции по изучению генетики северных оленей Максим Максимчик уверен, что необходимо заинтересовать крупный бизнес, тогда проблемы будут решаться гораздо быстрее. По его мнению, задачу по сокращению поголовья одновременно с повышением качества продукции и увеличением объема глубокой переработки невозможно решить на уровне регионов [7].
Помимо анализа публикаций мы провели интервью с молодыми специалистами, работающими в области оленеводства. На вопрос: «Возможно ли повысить престиж профессии оленевода?» — нам ответила начальник УХК «Паюта» МУП «Паюта» Полина Гальчук, которая четыре года назад приехала работать в ЯНАО после окончания вуза. Следует отметить, что выросла она в г. Луге Ленинградской области. За четыре года постоянного непосредственного общения с оленеводами она получила достаточно полное представление об особенностях кочевого быта и жизни оленеводов, а также об их чертах поведения.
По словам П. Гальчук, огромное количество профессий, некогда широко востребованных, в наши дни становится пережитками прошлого и теряется в анналах истории. Никто из современной молодежи уже не знает, кто такие телефонистки или таперы. Находится на пути к забвению и профессия «оленевод». Оленевод хоть и называется профессией, но в российских реалиях это скорее образ жизни. Оттого она так ценна и так тяжела: ее впитывают с молоком матери.
Начальник УХК «Паюта» подчеркнула, что, несмотря на тенденцию откровенного вымирания оленеводства, спрос на саму оленину высок, как никогда, — санкции и ориентация на органически чистые продукты питания сделали потребление оленины среди населения РФ очень востребованным. И, несмотря на то что объемы мясозаготовки год от года на предприятиях убоя показывают рост, в условиях переполненности стад оленеводов того же ЯНАО это капля в море. Тысячи квадратных километров тундры превращены в бесплодные пустыни из-за бесконтрольного перевыпаса огромных поголовий домашних оленей и особенностей воспроизведения оленьих пастбищ, которые очень медленно восстанавливаются.
Например, с 1970-х годов поголовье оленей на острове Колгуев поддерживалось на уровне 5000–6500 особей. В начале 2000-х годов контроль за популяцией был утерян, в итоге весной 2012 года в сельскохозяйственном производственном кооперативе (СПК) насчитывалось уже свыше 12 000 голов. Следствием такого роста, по данным департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого округа, стало истощение, выбытие и деградация пастбищ. Обследование трупов оленей, проведенное на острове, выявило их крайнее истощение: у большинства обнаружено воспаление слизистой желудочного тракта [8].
По мнению ветерана отрасли Валерия Толстоброва, который работал в СПК «Колгуев» в 2010–2011 годы, главная причина кризисной ситуации в оленеводстве острова — отсутствие профессиональных кадров и желания молодого поколения перенимать опыт старшего поколения и заниматься традиционной деятельностью. По его словам, работники СПК «Колгуев» — это не оленеводы, их скорее можно назвать «водителями снегоходов», приезжающими в стадо только за мясом. Практически все они жили в поселке, а в тундру наведывались удовлетворить собственные нужды — поохотиться, порыбачить, сходить за ягодами и грибами. Однако зарплату они регулярно получали именно как оленеводы. Все эти обстоятельства и привели к критической ситуации — массовому падежу оленей, произошедшему на острове в 2013 году [9].
Объективную оценку произошедшим событиям дал председатель СПК РК «Заполярье» Михаил Кисляков. По его словам, ситуация с падежом стада на острове Колгуев выявила основные современные проблемы оленеводческой отрасли НАО:
1) утеря контроля за регулированием количества частных оленей со стороны местных властей. Доля частного поголовья (около 30%), которая в округе увеличивается, никак не обоснована;
2) отсутствие механизмов государственного регулирования. Например, на острове Колгуев, на Канине популяция увеличилась, вследствие чего перестало хватать кормовой базы. Представителям органов власти необходимо вести с оленеводами конструктивные переговоры, попытаться их убедить, прийти к обоюдному решению. Однако этого не делается. Последняя официальная статистика «Ненецкстата» по количеству оленей в округе обновлялась в 2013 году: поголовье в регионе составило 180 128 оленей, в том числе частное — 43 248, семейно-родовых общин коренных малочисленных народов Севера — 6692;
3) кадровый голод в оленеводческой отрасли округа. По словам Михаила Кислякова, в ближайшее время его оленеводам исполнится в среднем по 55 лет, и они уйдут на пенсию. Большая проблема — где найти новых? А значит, придется отказываться от оленеводства [10].
В своем интервью Полина Гальчук подчеркнула, что программа правительства ЯНАО по снижению численности домашнего оленя должна не только помочь в решении проблемы деградации пастбищ, но и повысить уровень мясозаготовки. Однако оленеводы против снижения численности своего поголовья, они относятся к программе крайне негативно, считая, что их опять хотят обобрать, обмануть и надругаться над их культурой и укладом жизни, ведь большое поголовье — это прежде всего статус, капитал и способ заработка, хотя вряд ли весьма эффективный. Далеко не все из оленеводческих семей, имея тысячные поголовья, сдают даже малую часть из того, что имеют, а кое-кто не сдает вовсе.
«Казалось бы, почему? — сетует начальник УХК “Паюта”. — При цене мяса оленя в ЯНАО в 450 руб. за 1 кг продукта первой категории и 150 руб. — второй, сдавая даже по 70 голов, можно получить около 1 млн руб., а имея тысячные поголовья и сдавая по 1000 голов в год, можно зарабатывать в среднем по 14–15 млн руб., не теряя при этом воспроизводимости стада».
На вопрос, почему так мало крупных сдатчиков, Полина Гальчук отвечает: «Наверное, потому, что процесс поставки оленя на убой трудоемкий, травмоопасный и кажется оленеводам абсолютно бессмысленным. Когда ты живешь круглый год в тундре на дикоросах, мясе собственных оленей и продуктах из ближайшего тундрового магазина, носишь одежду, которую шьешь сам, топишь чум дровами, выделенными государством, получаешь чум и нарты по материнскому “Чумовому капиталу”, получаешь “кочевые”, учишь детей в интернате и в вузах на все те же государственные деньги, ездишь на “Ямахе”, выигранной в гонке на оленьих упряжках, — и так хорошо живется. И, главное, в город в выделенную государством квартиру тоже совсем не хочется, там воздух не такой — голова болеть начинает».
По мнению эксперта, несмотря на то, что жизнь оленевода, как бы он ни прибеднялся, достаточно обустроена государством, все меньше детей оленеводов возвращаются к кочевой жизни после обучения в интернатах и вузах, ведь, познав прелести современной городской жизни, очень трудно захотеть вернуться обратно. Да и сами живущие в чумах на постоянной основе не всегда рады своему положению: часто чумработницы жалуются на то, что с радостью обменяли бы чум на город, но муж не дает. И ведь самая большая боль таких женщин — это отсутствие стиральной машинки в чуме.
Следует отметить, что, говоря о профессии «оленевод», люди очень часто забывают о неотделимой от нее специальности «чумработница». На плечах этих женщин находится полное обеспечение быта семьи в практически первобытных условиях жизни.
По словам начальника УХК «Паюта», жизнь оленевода и чумработницы в условиях тундры и содержания стада — это тяжелейший труд, который под силу не всем людям. И их трудом очень часто стремятся воспользоваться более ушлые собратья. Их жертвами становятся в основном малооленные и не совсем благополучные семьи. Принцип работы посредников (в юридической среде их принято называть главами общин) «до безобразия прост». В летний период глава общины или его доверенное лицо колесит по тундре и агитирует оленеводов сдавать оленей «на него». В обязанности общины обычно входит большой перечень работ в рамках помощи оленеводам. Главная — документооборот: из-за распространенной неграмотности населения тундры постоянно возникают проблемы как с юридическими вопросами, так и с элементарным чтением и письмом. Но это в идеале, а в реальности все часто ограничивается возникновением у оленевода «долговой иглы», которая представляет собой обязательство сдавать оленей в данном году именно главе общины, пока долг не будет уплачен: зачастую в чумах так не вовремя ломаются снегоходы «Буран», которые надо покупать или чинить, а на новеньком «Буране» так приятно ездить еще задолго до убойного сезона.
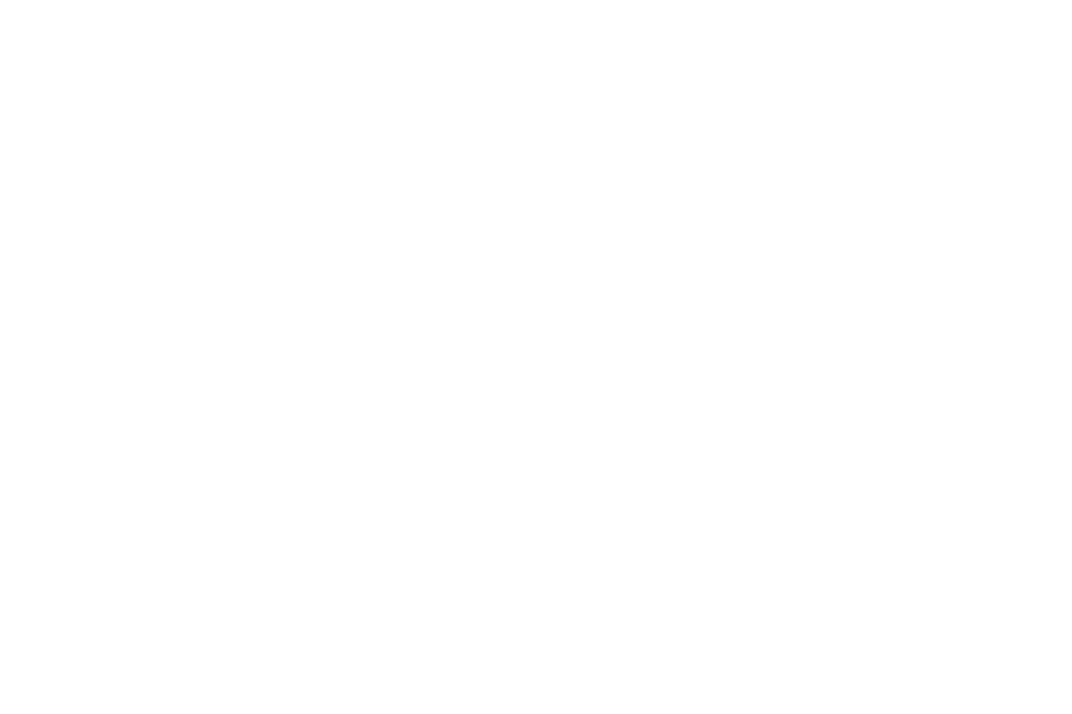
Фото: Карпухин Сергей
Полина Гальчук также отметила, что помимо ушлых дельцов большой проблемой среди оленеводов также является повальное пьянство. Отсутствие фермента алкогольдегидрогиназы в крови большинства малочисленных коренных народов Севера приводит к тому, что торговцы спиртом наживаются на них, причем очень быстро. Возможно, оленевод и рад бы не пить, но «Трэкол», груженный водкой, любезно подъезжает к чуму несколько раз в месяц, не оставляя аборигену шансов на трезвость, так же как и паленый канистровый спирт в некоторых «Трэколах» не оставит ему шансов на жизнь.
Полина Гальчук считает, что привлечь «свежую кровь» в оленеводство можно несколькими путями и наиболее неочевидный из них — искать потенциальных оленеводов не среди коренного населения, а среди желающих по всей стране и за ее пределами. Далее нужно обучать энтузиастов особенностям профессии, принимать у них экзамен и при успешной его сдаче снабжать новоиспеченных оленеводов и чумработниц всем необходимым — «чумовым» капиталом, минимальным набором техники и, конечно же, поголовьем.
По мнению Михаила Кислякова, в России можно тиражировать опыт Финляндии, где в местах кочевья оленеводов построены дома, проведено электричество, используются все самые современные технологии, включая спутниковые ошейники и квадрокоптеры, а территория выпаса оленей огорожена и закрыта для посторонних. Именно технологии делают труд оленеводов легче и привлекательнее и позволяют обходиться меньшим штатом работников [5].
Полина Гальчук считает, что привлечь «свежую кровь» в оленеводство можно несколькими путями и наиболее неочевидный из них — искать потенциальных оленеводов не среди коренного населения, а среди желающих по всей стране и за ее пределами. Далее нужно обучать энтузиастов особенностям профессии, принимать у них экзамен и при успешной его сдаче снабжать новоиспеченных оленеводов и чумработниц всем необходимым — «чумовым» капиталом, минимальным набором техники и, конечно же, поголовьем.
По мнению Михаила Кислякова, в России можно тиражировать опыт Финляндии, где в местах кочевья оленеводов построены дома, проведено электричество, используются все самые современные технологии, включая спутниковые ошейники и квадрокоптеры, а территория выпаса оленей огорожена и закрыта для посторонних. Именно технологии делают труд оленеводов легче и привлекательнее и позволяют обходиться меньшим штатом работников [5].
ЛИТЕРАТУРА
1. Федосеев Г. А. Злой дух Ямбуя. Сибириада. — Вече: 2022. — 496 с.
2. Гуляева Э. В. Редкая профессия — оленевод. Статья / Наука и образование online. 2019 [электронный ресурс]. — URL: https://eee-science.ru/item-work/2019-1842 (дата обращения: 01.12.2024).
3. Эксперт: север Красноярского края через пять лет останется без специалистов-оленеводов / ТАСС. 2017 [электронный ресурс]. — URL: https://tass.ru/obschestvo/4189953 (дата обращения: 01.12.2024).
4. Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Красноярского края отмечает, что за последние десятилетия в оленеводстве произошли большие изменения / ТАСС. 2018 [электронный ресурс]. — URL: https://kmns.ru/blog/2018/08/27/upolnomochennyj-po-pravam-korennyh-ma (дата обращения: 01.12.2024).
5. В России возник дефицит оленеводов / Ведомости. Карьера. 2024 [электронный ресурс]. — URL: https://www.vedomosti.ru/management/articles /2024/01/17/1015372-v-rossii-voznik-defitsit-olenevodov (дата обращения: 01.12.2024).
6. Предприятия Ямала получат субсидии на заготовку мяса оленя / Департамент агропромышленного комплекса ЯНАО. 2023 [электронный ресурс]. — URL: https://dapk.yanao.ru/presscenter/news/136341/ (дата обращения: 01.12.2024).
7. Эксперты обсудили меры поддержки оленеводства в России / Регнум. 2024 [электронный ресурс]. — URL: https://regnum.ru/news/3870342 (дата обращения: 01.12.2024).
8. Запрет на убой оленей на 10 лет введут на острове Колгуев / РИА Новости. 2020 [электронный ресурс]. — URL: https://ria.ru/20150507/1063139817.html (дата обращения: 01.12.2024).
9. Кто спасет колгуевских оленей / Региональный портал НАО. 2015 [электронный ресурс]. — URL: https://www.info83.ru/o-nao/anlitics/44878-2015-11-15-10-44-37 (дата обращения: 01.12.2024).
10. Экономика Северо-Запада / «Российская газета», 2015. № 6842 (271) [электронный ресурс]. — URL: https://thehrd.ru/articles/2682/?ysclid=lsrdcmpz 46354942454) (дата обращения: 01.12.2024).
2. Гуляева Э. В. Редкая профессия — оленевод. Статья / Наука и образование online. 2019 [электронный ресурс]. — URL: https://eee-science.ru/item-work/2019-1842 (дата обращения: 01.12.2024).
3. Эксперт: север Красноярского края через пять лет останется без специалистов-оленеводов / ТАСС. 2017 [электронный ресурс]. — URL: https://tass.ru/obschestvo/4189953 (дата обращения: 01.12.2024).
4. Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Красноярского края отмечает, что за последние десятилетия в оленеводстве произошли большие изменения / ТАСС. 2018 [электронный ресурс]. — URL: https://kmns.ru/blog/2018/08/27/upolnomochennyj-po-pravam-korennyh-ma (дата обращения: 01.12.2024).
5. В России возник дефицит оленеводов / Ведомости. Карьера. 2024 [электронный ресурс]. — URL: https://www.vedomosti.ru/management/articles /2024/01/17/1015372-v-rossii-voznik-defitsit-olenevodov (дата обращения: 01.12.2024).
6. Предприятия Ямала получат субсидии на заготовку мяса оленя / Департамент агропромышленного комплекса ЯНАО. 2023 [электронный ресурс]. — URL: https://dapk.yanao.ru/presscenter/news/136341/ (дата обращения: 01.12.2024).
7. Эксперты обсудили меры поддержки оленеводства в России / Регнум. 2024 [электронный ресурс]. — URL: https://regnum.ru/news/3870342 (дата обращения: 01.12.2024).
8. Запрет на убой оленей на 10 лет введут на острове Колгуев / РИА Новости. 2020 [электронный ресурс]. — URL: https://ria.ru/20150507/1063139817.html (дата обращения: 01.12.2024).
9. Кто спасет колгуевских оленей / Региональный портал НАО. 2015 [электронный ресурс]. — URL: https://www.info83.ru/o-nao/anlitics/44878-2015-11-15-10-44-37 (дата обращения: 01.12.2024).
10. Экономика Северо-Запада / «Российская газета», 2015. № 6842 (271) [электронный ресурс]. — URL: https://thehrd.ru/articles/2682/?ysclid=lsrdcmpz 46354942454) (дата обращения: 01.12.2024).
REINDEER HERDING IS A VANISHING PROFESSION: CHALLENGES AND SOLUTIONS
KEY WORDS
ABSTRACT
The article is devoted to the description of the problems of reindeer herding in the Arctic regions of our country. An analysis of publications on the current situation with reindeer herding in Russia is conducted, interviews and assessments of representatives of regional and municipal authorities, reindeer herding cooperatives and farmers, experts are given, on the basis of which a forecast is made that northern reindeer herding in the country may disappear in 10-15 years.
